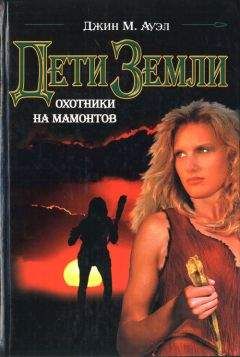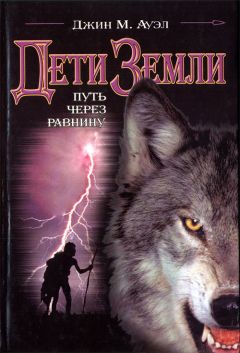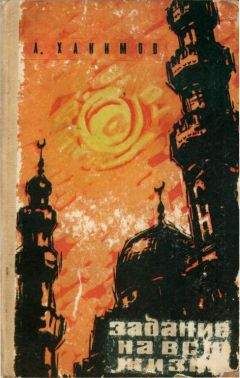Мурена - Гоби Валентина
В Центре протезирования Берси с него сняли слепок торса, специалист подогнал кожаные наплечники, отрегулировал длину спинного ремня и тросиков. Франсуа, маясь от июльской жары, ждет даты окончательной примерки, а вернее, просто проводит день за днем до единственного гарантированного в его жизни момента — кроме смерти, разумеется. Франсуа прекрасно это понимает, но вовсе не грустит. Врач уверяет, что отныне он сможет самостоятельно есть, носить сумку, находить удобное положение для тела, для плеч, чтобы их изгиб казался нормальным, чтобы Франсуа стал незаметным, невидимым для посторонних глаз.
Прекрасная мечта в двадцать два года: стать невидимкой.
Зелень, зеленый цвет воскрешают в нем забытые желания. Лесная чаща. Вековое молчание гор нарушают лишь редкие крики птиц: трехпалых дятлов, тетеревов, шелест папоротника и шум ветра в кедровых кронах, что напоминает музыку морского прибоя. Уже лет пять, как он не бывал в Мерибель. Он хочет уехать. Но что ты будешь там делать, спрашивают его, зачем, да и кто поедет с тобой? Я так хочу, и этого достаточно, отвечает он. Ему действительно чего-то хочется… С тобой могла бы поехать Сильвия, предлагает Ма, но он против, ему никого не надо. Никого — в смысле, отсюда, из Парижа, из сегодняшней жизни. Ему нужны немота, слепота, безвременье этих гор. А когда в Центре Берси все будет готово, он вернется.
С ним поедет мадам Дюмон. Поезд идет по линии под напряжением в двадцать пять тысяч вольт здесь, в Савойе, равно как и на пути Шарлевиль-Мезьер, объясняет контролер маленькому мальчику, такой гордый, будто этим обстоятельством все обязаны лично ему. Там, на месте назначения, мадам Дюмон объяснит другой сиделке, что она должна будет делать, Франсуа сразу же уточнит: самый минимум.
От вокзала до деревни вьется длинная извилистая дорога; в полях слышатся коровьи колокольчики; он дремлет, опустив голову на плечо мадам Дюмон; та прищуривается, разглядывает пейзаж — она ведь впервые видит горы, белеющие снега на вершинах, блеск кварца и слюды.
Дядя и тетя ждут их на пороге шале. У него мощные руки и плечи дровосека, у нее на носу учительские очки. Поль говорит простодушно: «Ты совсем не изменился». Франсуа целует тетю: «Нет, тетушка Поль, я очень изменился». Она смущена и предлагает занести их вещи в комнаты. Потом они усаживаются на скамейку под ветвями бузины и смотрят, как розовеет на закате скала, как над долиной поднимается туман, вдыхают ванильный аромат маленьких орхидей — мадам Дюмон спрашивает, как они называются, Франсуа вспоминает: летом у них темно-красные, почти черные лепестки, он бережно выговаривает:
— Нигрителлы.
Поначалу его тайные экспедиции в чащу длятся долго. Ему довольно лишь видеть, слышать, ощущать. Он ложится на мох, словно на мохнатый плюшевый ковер, и разглядывает, как медленно колышутся на ветру ветви, как покачиваются длинные бороды лишайников, уцепившиеся за обнаженные сучья. Он видит, как лишайники рисуют по скалам затейливые изображения неведомых континентов, кустики светло-голубой горечавки со вздутыми цветочными чашечками, цветущую чернику и землянику, колючелистник с серебристыми лепестками. Стоит только опустить взгляд, как он наполняется цветами и формами, ничто не ускользает от него: вот безвременник, вот анютины глазки, желтый и розовый чертополох… Франсуа может разглядывать пчел, сверчков, заросли папоротника. Здесь все для него: и каждый листик, каждая букашка, рои мошкары, сенокосец на длинных лапках, золотистая бабочка, присевшая отдохнуть к нему на лоб. И мох, и трава, и камни не имеют глаз, они никого не способны видеть; скалы тоже слепы и, если не считать животных, которым, в принципе, все равно, здесь никто не видит его увечья, кроме него, сам же он невидим, он исчез, не исчезнув на самом деле. В нем остались лишь образы, которые, словно ковер, покрывают его память: шалаши, тайные проходы и тропы в зарослях; тогда у него, как и у остальных, были руки. Теперь же только здесь можно примириться с настоящим.
Через девять дней он уже поднимается на альпийские луга, и природа также тянется вверх длинными своими стеблями. Он почти забыл названия растений, но безошибочно узнает их. Вот длинные травы, что зовутся злаковыми, — они такие тонкие, что солнечный свет буквально проходит сквозь них; тростник, дантония, лесной ячмень, гигантский ржаной костер. Множество пушистых семян разлетается под ногами, с золотистых скерд ветер сдувает малюсенькие пушинки, а вот трясет лохматой шевелюрой горный гравилат и кипрей роняет опушенные семена с высоты двухметрового своего роста. Здесь преобладает вертикаль, все устремляется вверх, к небу: желтые горечавки, пастельных оттенков цветы больших астранций, зеленые и красные метелки горного щавеля. У Франсуа больше нет рук, чтобы карабкаться по скале, приходится подниматься по склону. Он тянется ртом к шипастым веткам малины и ежевики. Склоняется над медными желобами, подведенными к родникам, из которых пьют местные пастухи. К концу дня болит все — от пяток до бедер, от поясницы до шеи. Не то чтобы даже болит, просто Франсуа чувствует, как работают, как живут его мышцы. Вечером он забирается в теплую ванну, его обтирают, одевают, кормят. Несколько раз он засыпал, даже не поужинав, не замечая голода. Перед сном он смотрит на огонь в камине или на мерцающее сияние звезд.
Он продолжает свои восхождения, испытывает ноги, дыхание; от напряжения ломит поясницу. Дядя волнуется:
— Давай я пойду с тобой, а то твой отец рассердится, когда узнает, что я отпускаю тебя одного.
— Так не говори ему.
— А если с тобой что-нибудь случится?
— Что значит — что-нибудь? — улыбается Франсуа.
— Заблудишься. Сорвешься со скалы…
— Ага. А еще может так случиться, что меня ударит молнией, сожрут волки или я замерзну насмерть.
— Не злись. Франсуа, ты же понимаешь, о чем я…
Нет, он будет ходить в горы один. Молния его уже ударила. Волки уже сожрали. И он уже замерз.
К концу августа ему удалось пройти лес Фонтани, преодолеть крутые склоны Дос-де-Ланш и опасные горные осыпи. Пару раз он сорвался, ушиб живот и подбородок, но упрямо поднимался и продолжал свой путь, ступая по ненадежным тропам осторожным легким шагом артиста балета. Вот он идет, словно ожившее дерево, по залитому солнцем склону, в широкополой шляпе, что одолжила ему тетушка Поль, похожий скорее на акацию, чем на лиственницу. Шляпа летняя, соломенная, дамская: тень от ее полей покрывает его до середины груди, так, чтобы солнце не опалило то, что уже опалило электричество. Из-за дырочек в полях шляпы бледная кожа его лица сплошь покрыта темными пятнышками, которые мало-помалу превращаются в настоящий загар. Он уникальный представитель своего вида, но здесь это не имеет значения, потому что известно только ему. Он продолжает свой подъем под голубым, кобальтового оттенка, небом, ощущая запах раздавленных его ногами цветов, ароматы трав, раскаленной земли и созревших плодов. Когда начинает ломить спину, он останавливается, потягивается, ждет. Он ни о чем не думает. Иногда его настигает гроза, небо становится фиолетовым, и приходится искать себе убежище — пещерку или грот, откуда он созерцает зловещий блеск молний, а потом стену ливня, которая постепенно поглощает ландшафт. Но он не боится. Ему не страшен грохот стихии, он растение среди растений, насекомое среди насекомых, дерево в лесу, камень среди камней.
Однажды он достигает перевала Де-ла-Лоз, две тысячи двести семьдесят пять метров, на семьсот метров выше Мерибель. На шее его болтается заткнутая пробкой фляга, Анри воткнул туда металлическую трубочку. С голого плоского уступа он разглядывает Гран-Мон-д’Ареш, выступ Дю Рей. На востоке виднеются Мон-Беллаша и Шеваль-Нуар. На западе — Монблан, Жорасс, ледник Гран-Касс.
Ногой он опрокидывает на камень сумку, что собрала тетушка Поль, — нарезанные яблоки, сосиски, хлеб. Внутри находит записку: «Приятного аппетита, Франсуа!» Он ест изогнувшись, наподобие косули. Затем распластывается на камне, чтобы высох проступивший пот.