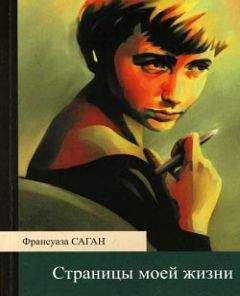Франсуаза Саган - Смятая постель
Только у Эдуара не было никаких определенных обязанностей в этой поездке. Самый последний работяга был нужнее в глазах Беатрис, чем он, – и Эдуар это чувствовал. Когда вечером все, от гримера до режиссера, обсуждали дневные съемки, Эдуар, хоть и присутствовал на них и знал малейшие перипетии рабочего процесса, всегда чувствовал себя бездельником, чужаком и человеком вне группы.
Он несколько раз съездил в Париж и вернулся обратно в Турен – где проходили съемки, – пытался рассказать о своих встречах, своей работе, но, похоже, это никого не интересовало, кроме Тони д'Альбре, которая в конце концов продала права на его пьесу одному очень хорошему театру на Бродвее. Но даже Тони говорила с ним о его контрактах и о его планах не иначе как шепотом, чуть ли не тайком, как будто на протяжении трех недель было неприлично говорить о чем-либо другом, кроме «Возможно, где-нибудь» – так назывался фильм Рауля. Впрочем, это безразличие не слишком задевало Эдуара, который всегда был в ужасе, если приходилось говорить о своих пьесах. Гораздо больше его мучило то, что всеобщее безразличие днем превращалось в конкретное безразличие ночью, потому что даже в постели и даже во время любви Беатрис все равно сохраняла какую-то отстраненность, была не с ним, в ней было что-то, чего она не хотела разделить с ним и что он плохо понимал. Ведь, в конце концов, в фильме она играла женщину трогательную, но глупую, зануду, как шутливо говорила она сама. Она жестоко насмехалась над своей героиней, однако делала все возможное, чтобы для других она была достоверной. Первоначальное неприятие, которое она испытывала к роли, испарилось в одну секунду. Та, кого она играла, была современной Эммой Бовари, и Эдуар, не будучи ни Омэ, ни Родольфом, не мог ее не раздражать.
– Мне кажется, – сказал он ей однажды, когда она уже третью ночь подряд отказывала ему, – ты предпочла бы заняться любовью с Сирилом (так звали молодого героя-любовника), чем со мной.
Беатрис на секунду задумалась.
– Это верно, – сказала она, соглашаясь, – однако, бог свидетель, он мне не нравится…
Эдуар запнулся, потом продолжал:
– А что тебе мешает? Может быть, я?..
Она не дала ему закончить и рассмеялась.
– Ох, Эдуар, ну какой же ты глупый! Когда хочешь кого-нибудь, всегда найдешь для этого и место и время, даже если вокруг семьдесят человек технического персонала… Быстрота, с которой это совершается у актеров, общеизвестна. Нет, меня угнетает, что он совсем мне не нравится и поэтому я плохо играю свою любовь к нему, а если я к тому же узнаю, что он ничего не стоит в постели, мне будет еще труднее.
Тогда Эдуар ровным спокойным тоном, зная, что, только услышав бесстрастный голос, может сказать правду, спросил:
– А Рауль, твой режиссер? Ведь он влюблен в тебя, разве нет?
– О да, – рассеянно сказала Беатрис, – и это прекрасно! Могу гарантировать тебе, что проволыню его до конца съемок. Определенной раскадровки, мой дорогой, и нужного освещения может добиться от режиссера только женщина, не познанная в библейском смысле. Или, – весело добавила она, – мне нужно было сдаться с самого начала и изображать влюбленную до конца съемок. Но тебя бы тогда не было с нами, мой дорогой малыш. А я ведь все-таки, – непринужденно добавила она, привлекая его к себе, – влюблена в тебя…
Никола, которому обиженный Эдуар передал все эти циничные речи, подтвердил, что именно такова кухня классических взаимоотношений на съемочной площадке. В конце концов, в этой группе людей, целиком захваченной съемками некоей истории, подкрашенной эротизмом, устанавливается специфическая атмосфера кастовости, потому что ежедневно изображать любовь и десять раз в день механически проделывать одни и те же движения – этого достаточно, чтобы опротивел весь мир.
– Думаю, будет лучше, если я уеду, – сказал он Никола, который участливо предложил ему сигарету.
– Я говорил тебе об этом десятки раз, – ответил Никола.
Он чувствовал себя как нельзя более на месте, лениво вытянувшись на траве и покусывая травинку. Низкие холмы Турена заливал мягкий свет косых солнечных лучей неяркого сентябрьского солнца, от которого черепица на крышах казалась фиолетовой, и в этой красоте золота и багрянца, уже вмешавшегося в зелень уходящего лета, чувствовалась какая-то грусть. Зима была не за горами. И зима пугала Эдуара. Зима означала для него город, толпу, суматоху и ужас. Он еще не прожил ни одной зимы вместе с Беатрис. Когда они впервые познакомились, была весна, весна, которая закончилась разрывом, и во второй раз он встретил ее тоже весной. Теперь они прожили с Беатрис и весну, и лето, и осень, и он не мог понять, почему так боится зимы.
– А зачем мне ехать? – сказал он. – Ты не представляешь себе, как я заскучаю в Париже теперь, когда закончил пьесу…
– Прекрасно, что ты ее закончил, – сказал Никола. – Тем более что пьеса вышла потрясающая.
И Никола дружески потрепал Эдуара по плечу.
– Так мило, что ты дал мне ее почитать. Я был очень тронут.
Эдуар в ответ улыбнулся. Он и сам не знал, почему именно Никола, неудачнику, чудаку и вдобавок пьянице, он доверил свою пьесу. Лицо Никола, чересчур красивое, слишком густо загримированное, с чересчур ослепительными зубами, из-за своей фальшивой моложавости ставшее карикатурой и на красоту, и на привлекательность, было теперь для Эдуара лицом друга, которому можно доверять. И вот что любопытно – все, что делал Никола, всегда было не слишком уместно – смех, шутки, жесты и признания, особенно когда был в подпитии, – зато все, чего он старался не делать, получалось деликатно и умно. Никола умел промолчать, отвернуться, не улыбнуться именно тогда, когда нужно, что говорило о его добром сердце.
– Оставим пьесу, – сказал Эдуар, – ты думаешь, я действительно раздражаю Беатрис?
– Раздражаешь, – ответил Никола. – Ты вне фильма, значит, ты лишний. И обрати внимание, ты всегда мешаешь: появилась чья-то тень – это твоя тень, если кто-то оказался перед камерой, то это ты; если в магнитофоне помеха, значит, ты кашлянул…
– Что правда, то правда, – признал Эдуар. – Но что делать, если без нее я чертовски несчастен.
Он кивнул на Беатрис, которая, подняв глаза к небу, казалось, изничтожила самолет, с гулом пролетавший мимо. Она стояла, задрав голову, и притопывала ногой, и среди всех тех, кто составлял технический персонал и небольшую толпу зрителей, тоже ждавших, когда этот никому не нужный самолет наконец пролетит, она выглядела самой нетерпеливой и самой злобной. Никола засмеялся.
– Без этой ведьмы!.. – сказал он.
И Эдуар засмеялся вместе с ним и повторил «без этой ведьмы» с радостным испугом нашкодившего школьника.