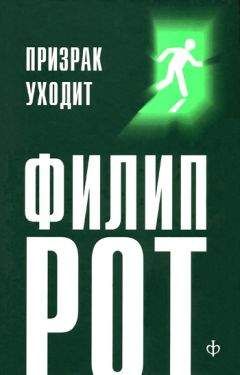Людмила Улицкая - Люди города и предместья (сборник)
А мечтал Даниэль только об одном — поскорее уйти ото всех, он уже свое решение принял. Но он понимал, что добром его не отпустят, согласился, что все им переведет, сдаст им все гестаповские документы. Отвезли его в Эмск, в тот самый дом, откуда он сбежал, за тот же самый стол. Только вместо немецкого капитана русский. И два лейтенанта, русский и белорус. Опять ему форму выдали, на довольствие поставили в той же столовой, где сидел с полицаями. Работа та же самая — все, что когда-то на немецкий с белорусского переводил, теперь на русский переводил. И понимает, что как только все переведет, сразу же арестуют. Вот, месяца два прошло, настал день, когда капитана вызвали в Минск, и русский лейтенант с ним поехал. Белорус за начальника остался. А брат мой — умнейший человек! Подумал-подумал и явился к лейтенанту отпрашиваться — сказал: «Я всю работу закончил, как договаривались. У меня в Гродно родня, я хочу их навестить. Дайте мне отпуск на несколько дней». А лейтенант-белорус с ним очень конкурировал, думал, что Даниэля за знание иностранных языков могут на его место взять, и он подумал-подумал, и говорит: «Отпустить я тебя не могу, нет у меня таких полномочий. Но если ты к своей родне съездишь, я лично могу этого и не знать…» То есть он не говорит: «А ты сбеги без разрешения», — но вроде бы дает понять. И тогда Даниэль в последний, кажется, раз сбежал от секретной службы.
А теперь своя, израильская, вызывает — что делать? Я говорю — не ходи. Ты сам себе хозяин, к тому же монах. Не ходи, и все.
А Даниэль ухо свое вычесал и говорит: «Нет, я пойду. Это моя страна. Я здесь гражданин». И пошел. Потом дня через три приезжает, я спрашиваю: как сходил? Он смеется.
«Во-первых, — говорит, — что тот капитан, что этот — одно лицо. И вопросы все те же: когда, где родился, кто мама-папа, бабушка-дедушка, с кем в школе на парте сидел, кто был сосед справа, сосед слева… Ответил я. Он опять те же самые вопросы задает. И по третьему кругу — все они как будто одну академию кончали!» Так смешно он, Эва, это рассказывал. Хотя, казалось бы, смешного мало. Потом его спросили, не хочет ли он помочь стране. Даниэль сказал, что помочь стране он всегда рад. Тот оживился и предложил ему давать информацию о прихожанах. Сказал, что среди них есть наверняка один или несколько засланных агентов из России.
ЭВА. Что ты говоришь, Авигдор! Не может быть!
АВИГДОР. Что, Эва, не может быть? Все может быть! Ты думаешь, не было агентов? Сколько еще было. Здесь — тамошних, там — наших, всюду — ваших. А уж сколько английских служб здесь было, это всем известно. Это же Ближний Восток. Ты думаешь, я здесь в деревне сижу, так в политике не разбираюсь? Очень даже разбираюсь, не хуже Даниэля, хотя он все иностранные газеты читал.
В общем, дальше было дело так — он отказался. «Нет, — говорит, — у меня есть профессиональный долг и профессиональная тайна. Если я почувствую угрозу государству, тогда буду думать, как поступить, но пока я с такими ситуациями не сталкивался».
Тогда капитан говорит: «Может, мы можем быть вам чем-нибудь полезны? Мы вас уважаем, знаем о вашем боевом прошлом, о ваших наградах. Может, у вас есть проблемы, которые мы поможем вам решить?» — «Да, — сказал Даниэль. — Я здесь поставил машину на платную стоянку, будет стоить три лиры. Вы мне их возместите, пожалуйста».
Вот такая история была.
ЭВА. А в каком году?
АВИГДОР. Ну, точно не помню. Помню, он сказал «лиры». Значит, до 80-го года.
26
Август, 1965 г., Хайфа.
Даниэль Штайн — Владиславу Клеху
Дорогой брат!
Спасибо за книги. Только что получил посылку. К сожалению, сейчас совершенно нет времени для чтения. Нет даже времени, чтобы ответить на твое письмо. Поэтому обещаю написать длинное письмо с «объяснениями». Твоя интуиция правильно тебе говорит, что вскоре после приезда в Израиль начался некоторый внутренний процесс, и очень многие мои старые взгляды зашатались. Это страна невероятно интенсивной жизни — и социальной, и политической, и духовной — я не люблю этого слова, потому что не принимаю этого разделения жизни на высшую и низшую, на духовную и плотскую. Вопрос, который встал для меня очень остро вскоре после прибытия в Израиль, можно сформулировать так: во что веровал наш Учитель? Вопрос не о том, что Он проповедовал, а именно — во что Он веровал? Это интересует меня более всего. Не обещаю, что напишу тебе о моих размышлениях по этому поводу в ближайшее время, но сделаю это непременно.
Поздравляю тебя с праздником Преображения. Вчера я служил мессу на вершине горы Табор. Там стоят два храма — католический и православный, отгороженные друг от друга решетками. Мы нашли место на склоне горы, чуть ниже вершины. Думаю, как раз в том месте, где апостолы пали на землю, пораженные видением. И там мы молились. Кроме моих постоянных прихожан с нами были несколько православных и две англиканки. Большая радость.
Ржавая решетка, которая разделяет эти две церкви, мне даже во сне приснилась. Эта решетка между Петром и Павлом! И в таком месте! Из головы не выходит. Но поскольку долгие раздумья мне, человеку легкомысленному, не очень свойственны, я написал уже прошение Латинскому Патриарху о разрешении создать здесь, в Хайфе, христианский союз всех номинаций — для совместной молитвы. Я в душе размышляю также и о возможности совместной литургии. Если в этом направлении работать, то можно было бы увидеть это при нашей жизни. Я не сумасшедший и понимаю, как много препятствий на этом пути, но если Бог этого захочет, то оно и будет.
Братский поцелуй.
Твой Даниэль.
Конец первой части
2006.03.01. Москва.
Письмо Людмилы Улицкой Елене Костюкович
Дорогая Ляля!
Вот какое у меня неожиданное сообщение — еще в ноябре, в Воллензеле, оказавшись с отрубленным телефоном, неработающим компьютером и говорящей исключительно по-фламандски хозяйкой, в комнате с медитативным ковром из индонезийской тапы, я поняла, что больше всего хочу написать о Даниэле. Ни увлекательный мифологический сюжет, ни «Зеленый шатер», который уже отчасти существует, — ничего этого. Только о Даниэле. Но я полностью отказалась от документального хода, хотя все книжки-бумажки, документы, публикации и воспоминания сотен людей выучила, как полагается рабу документа, наизусть. Начала писать роман, или как это там называется, о человеке в тех обстоятельствах, с теми проблемами — сегодня. Он всей своей жизнью втащил сюда целый ворох неразрешенных, умалчиваемых и крайне неудобных для всех вопросов. О ценности жизни, обращенной в слякоть под ногами, о свободе, которая мало кому нужна, о Боге, которого чем дальше, тем больше нет в нашей жизни, об усилиях по выковыриванию Бога из обветшавших слов, из всего этого церковного мусора и самой на себя замкнувшейся жизни. Здорово завернула?