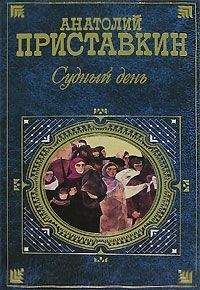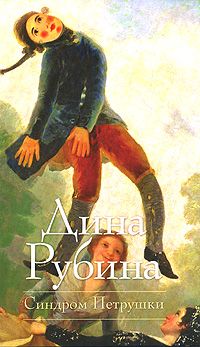Анатолий Приставкин - Ночевала тучка золотая
Особенно шепелявил Митек, его братья знали.
— Шегодня не вышпался, а как вштал, пошмотрел в штоловой, што дают, и вшпотел…
Над его шепелявостью смеялись, говорили: «Это Митек, который вшпотел, когда шъел в штоловой швой ришовый шуп!» Так вот, на следующее утро, очень раненько, когда от земли, от поля еще веет чистотой и легкостью и совсем мало пыли, прямо во двор въехала зеленая новенькая машина «студебеккер», вся в заграничных надписях — и на борту, и на капоте, и на двери кабины. Борта у нее в кузове откидывались вовнутрь, и из них получались такие решетчатые деревянные скамейки во всю длину машины.
Из кабины, громко хлопнув дверцей, выскочила молодая женщина в штанах, как у мужчины, в ватнике и заломленной лихой фуражке. Но все ребята сразу увидели, что это женщина, а через минуту уже знали, что ее зовут Вера.
Потом она приезжала каждое утро и отчего-то всегда смеялась, глядя, как колонисты наперегонки переваливаются в кузов машины. Она была веселым человеком и покрикивала, заливаясь от смеха: «Давай, мужики! Напружинься, счас вкалывать поедем! А то без вас конвейер не ползет!» О том, что такое конвейер и как он ползет, ребята узнали позже, но в эту шоферицу Веру, хоть и была она в мужчинской одежде и, что всего хуже, в штанах, влюбились все колонисты поголовно. Они говорили о Вере проникновенно, каждый мечтая втайне понравиться ей, а может, и жениться, когда вырастет. И каждый, конечно же, с этого времени хотел быть, как Вера, шофером. Девочки тоже.
В первое же утро, как и предполагали братья, их попытались из машины турнуть. Тем более что и другой малышни набилось много. Она потом набивалась каждый день, и каждый день приходила воспитательница и вытаскивала зайцев, мечтавших проехать на машине до завода. Обратно они были согласны топать пешком.
Но от зайцев отделывались, а от Кузьменышей не смогли. В два горла они завопили, что они старшие, хоть и живут в младшей спальне, что они мало соли ели и что рост — это еще не все.
Пожалуй, по одному их, как и остальных зайцев, все-таки выковыряли бы из машины, но двоих, когда они держались друг за друга и блажили на всю колонию…
Махнули рукой, велели отправляться.
Вера, одобрительно посмеиваясь, проверила, все ли уселись, лукаво взглянула в сторону Кузьменышей, залезла в кабину, крутанула стартером, с места рванула вперед. И погнала.
Колонисты взвыли от такой пронизывающей и лихой езды. Восторженно заорали, засвистели, заголосили в тридцать луженых глоток, а Вера, заливаясь от смеха и оглядываясь, чтобы глазком одним в заднее стеклышко увидать своих разбойников, как она их после называла, поддала еще.
Машина летела, а не ехала по белой наезженной дороге среди покрытых белой пылью кустов, оставляя за собой длинный дымный хвост.
Так их и привезли в первый день, гикающую и воющую от наплыва чувств ребятню.
Из окошек конторы, из проходной завода выглядывали люди, говорили между собой: «Колонистов привезли».
Вера выскочила из машины, сдвинула на затылок кепочку и крикнула, засмеявшись: «Мужики! Вылазь! Счас поштучно вас сдавать под расписку буду!» Но никто их не пересчитывал, не проверял. Вера уже на пустой машине въехала в большие железные ворота на территорию, а ребят провели через узкую дверь проходной.
Они очутились на огромном, отгороженном от мира высоким каменным забором дворе, заставленном корзинами и ящиками с фруктами. Тут были помидоры, сливы, яблоки, груши и те самые странные кабачки, которых вместо огурцов нажрались однажды наши Кузьменыши. Никто ничего не охранял. Пробегали озабоченные женщины в синих грязноватых халатах, оглядывались на ходу на горланящую ребятню и исчезали за стенами длинных зданий. Может, они и появлялись, чтобы посмотреть на колонистов, присланных им для помощи. Мужчин на заводе было не более десятка.
Ребята с оглядкой, чтобы никто не видел, начали таскать из корзин фрукты — кто сливу, кто помидорину, старались засунуть сразу в рот и проглотить. Но прошла мимо женщина и бросила на ходу: «Да вы ешьте! Ешьте, не стесняйтесь! Это все из шланга промыто…» Тут уж пошел такой шарап, что жарко стало. Все бросились к корзинам и стали хватать, засовывая и в рот, и в карманы штанов, и даже за пазуху. Набрали яблок, и груш, и слив, и помидоров, кто к чему близко стоял. Разбухли, отяжелели.
Набили каждый брюхо и под рубаху, нажрались так, что только из глаз да ушей не текло.
Но никто по-прежнему не торопил их, никто не упрекнул за шарап. Вот что обидно: как было много всего, так и оставалось много. Всех корзин, даже при желании, пережевать или, скажем, стырить со двора завода оказалось невозможно. Хоть и знали колонисты, свято верили в то, что нет для них невозможного, если это касается жратья.
Не съели с ходу, животы малы, так переварить можно и опять поесть. И другим в колонию захватить. И само собой запас для других дней сделать… Засушить или еще как…
Так понимали Кузьменыши, когда набрали за пазуху слив. Потом эти сливы помялись, их, уже кашицей, пришлось потихоньку из-под рубахи выгребать и выбрасывать.
Если бы в Томилине шакалам да хоть одну сливину, не то что корзину! Даже эту размазню от слив!
Работу же дали всем как раз по переборке слив. Каждый день приносили огромные стеклянные бутыли, литров по сто, в эти бутыли колонисты должны были складывать сливы, очищая их от мусора, сортируя по спелости. Бутыли заливали какой-то вонючей жидкостью, после которой плоды начинали противно белеть и становились несъедобными. Как поясняли колонистам, в таком виде сливы могут храниться хоть до зимы, и, когда пройдет горячая пора урожая, их пустят в переработку и сварят джем и варенье. Какое же варенье из испорченных белых слив!
В общем, хоть все объяснили, ребятам не понравилось, что на их глазах и их усилиями происходит порча продукта. А раз жрать после заливки этой отравой нельзя, значит — порча, и убедить их в обратном было невозможно.
Помидоры и яблоки колонисты перебирали более охотно. Тут ничем не заливали, не травили, а приходили огромные парни, евреи, и уносили тару в двери цеха.
Так их все звали: евреи. Были они все рослые, наверное, метра в два, голубоглазые, светловолосые и — веселые. Огромные корзины они хватали шутя, как игрушки, по корзине на плечо, и вовсе не ныли, не уставали, как заметили Кузьменыши.
Евреи — значит сильный и добродушный народ. Так оба брата решили.
А вот тетка Зина, которая стояла в дверях цеха, куда уносили евреи продукцию, поначалу не понравилась. Была она немолода, сварлива, в грязном синем халате и в белой косыночке, завязанной на затылке узлом.
Тетка Зина зорко приглядывала за колонистами, гнала самых любопытных от дверей, кричала на весь двор: