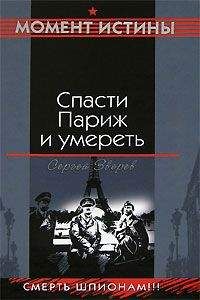Владимир Порудоминский - Короткая остановка на пути в Париж
Седой господин на экране убедительно рассказывал об удобствах анонимной кремации. Если вы не хотите беспокоить ваших родных и близких, если ваши родные и близкие не хотят беспокоиться или почему-либо не в силах принять на себя неизбежные беспокойства, соответствующая фирма без всякого участия с вашей стороны превратит ваше отжившее тело в горстку-другую пепла. Нужно только позвонить по телефону и сообщить, что вы умерли. Ну, и оплатить услуги, конечно. За вами приезжает автомобиль, а через определенное время родные и близкие получают прах в запломбированной урне, модель которой вы можете сами заранее выбрать по каталогу. Анонимная кремация производится согласно самым строгим правилам. Тут на экране показали огромный во всю стену холодильник, в секциях которого, как в сотах, хранятся взятые в переработку тела, упакованные в прозрачные пластиковые мешки. Два работника фирмы в светло-зеленых комбинезонах извлекли тело из мешка, натянули на него белое трикотажное белье. «У нас за таким бельем когда-то в универмаге очереди стояли», — весело прокомментировал Старик. Потом покойного обрядили в какое-то подобие специального мундира — темно-зеленый мундир удобно надевался спереди и застегивался на спине с помощью нескольких крючков. «Прямо генерал! — веселился Старик. — Только орденских планок не хватает и золотой звезды героя». Профессор оборвал его: «Прекратите!» Голос у него дрогнул. Он поднялся было, чтобы уйти, но, постояв минуту, снова опустился в кресло. Гроб был светлого дерева, просторный, с высокими стенками, слегка украшенными резьбой. «Ничего себе ящик! В России мы о таком и не мечтали!» — не мог угомониться Старик. (Ох, страшно ему, — думал Ребе. — Да ничего, пусть помается!) «Не кощунствуйте!» — вдруг тонким голосом закричал Профессор. Он побледнел, снова встал с кресла, шагнул было к двери — и остановился: в этот момент на экране возникли гигантские металлические клещи, они опустились откуда-то сверху, подхватили гроб, подняли, подержали на весу и опустили на черную бегущую дорожку транспортера. Ладья неторопливо двинулась вперед — дальше, дальше, и вот на ее пути распахнулись тяжелые ворота и обнажилось сияющее пламенем жерло печи. Огнь пожирающий... — с ужасом вспомнил Профессор. — Откуда это? Огнь пожирающий...
А с экрана молодая красавица с ярко-голубыми линзами в глазах уже увлекательно рассказывала, что вместо того, чтобы покупать могилу на кладбище, можно захоронить урну в лесу под деревом; для этого отведены специальные лесные участки. Нестандартно и поэтично. Лесные ландшафты, предъявленные телезрителям, были, в самом деле, очень привлекательны. Имеется и морское захоронение: урну с вашим прахом берут на борт специального судна и опускают в пучину. Морские виды тоже манили воображение.
«Что скажете, Профессор? Красиво? А?». Старик повернулся к Профессору, точно ничего и не было между ними.
«Боюсь, эта передача не для нас, — сказал Профессор. — Начальство Дома без нашего участия решит, что с нами делать».
«Но помечтать-то можно. Тем более что есть заманчивые предложения. Вы, Ребе, выбрали что-нибудь. А?»
«Мне незачем выбирать. — Ребе потянул на лоб козырек фуражки. — Меня похоронят на кладбище Батиньоль в Париже».
«Простите... — Профессор задохнулся от неожиданности. — Вы собираетесь в Париж?»
«Непременно. Здесь — только короткая остановка».
Старик побагровел и захохотал:
«Да вы в Доме уже шесть лет... Или семь?»
«Это неважно. Мне надо в Париже передать письмо. Я обещал. Там ждут».
(«Там ждут», — сказал Учитель, передавая ему письмо. — Он знал, что умирает. Была новогодняя ночь. Двадцатый век перешагивал во вторую половину. Учитель договорился с санитаром, что Ребе — тогда еще Лев в квадрате — поможет хоронить его. «Боюсь, не запомню места, — сказал он Учителю. — Кладбище большое. А здесь не то что имен, номеров не ставят». Синие, уже меркнувшие глаза Учителя засветились улыбкой: «Вы полагаете, я собираюсь здесь лежать?..»)
Передача заканчивалась. Из телевизионного ящика неслась бодрая музыка.
«Господин Профессор, у вас процедура».
В двери стояла старшая сестра Ильзе.
4Зачем он смотрел эту дурацкую передачу! Ведь он уже встал, чтобы уйти. И снова, как мальчишка, по первому слову Старика покорно опустился в кресло. Этот грубый Старик обладает какой-то необъяснимой особенностью подавлять его, подчинять себе. Впрочем, наверно, он сам всего более виноват в своей податливости. Несносный характер, всегда готовый к уступкам, ищущий соглашения. Воспитанный в детстве под крылом обожавшей его, вечно зябнувшей в страхах семьи. Родители, однажды напуганные и так до конца долгой жизни не успевшие освободиться от испуга, всегда и во всех случаях ищущие возможность ладить с ними, с теми, кто за окном и вокруг — сверху, снизу, в учреждениях, в трамвае, на улице. И няня, найденная или дарованная им под стать: в младенчестве он прятал лицо в мягкой и теплой выемке между ее тяжелых грудей, в мягкой байке ее платья, чтобы не вдыхать, не чуять, не слышать разлитого повсюду в воздухе запаха, привкуса, посвиста страха. И вот теперь, когда жить осталось несколько воробьиных шагов и, если не бояться смерти, то вообще уже нечего бояться, над ним по-прежнему властвует привычка страха, и наглый окрик Старика, точно команда собственного мозга, подчиняет дух и тело...
Процедура как всегда возбудила Профессора, но тоска, которую разворошила в душе передача, не отпускала его. Неужели всё, что ждет его впереди, удобный гроб, брошенный железными клещами на вечно ползущую ленту транспортера и пламенеющее жерло печи?.. Огнь пожирающий!.. Иногда он жалел, что оставил Россию, его воображение заполняли сослагательные мечтания — заполненные аудитории (и он на кафедре), юные лица студенток, птичий перезвон молодых голосов, покорные и смелые аспирантки, исполненные серьезного достоинства беседы с коллегами, знакомые имена которых он, среди множества новых, неведомых ему имен, еще встречает, когда попадает ему в руки российская газета, книги, им написанные, значимые, итоговые, в красивых солидных переплетах. Всё это было брошено под ноги Вике, она прошла, не испытывая благодарности, похоже, даже не заметив того, что у нее под ногами, по всему, что могло составить смысл и сущность оставшейся его жизни. Он искал в этой молодой любви продолжения жизни: он любит, он любим — он живет. Светлый месяц, проплывая за окном, с каждой ночью становился массивнее, круглее. Вика в большом, не по росту, профессорском халате сидела на диване, скрестив по-турецки ноги, воодушевленно разворачивала перед ним рожденные ее воображением видения будущего, похожие на страницы рекламного атласа туристического агентства, заполненные фотографиями ярко-синих океанов, экзотических земель, великих творений искусства и зодчества всех народов и континентов, — он увлеченно слушал ее, будто пил элексир долголетия. Жадно требовательная маленькая женщина, она умела взять от него, мужчины, казалось ему, вдвое, втрое более того, что он мог дать, и это тоже приносило радостное ощущение нескончаемого продолжения жизни. Она снова и снова пересказывала теорию об идеальных детях, рождаемых от старого (слово мучило его, но он стеснялся сказать ей об этом) отца и юной матери, и однажды почувствовала, что в самом деле беременна. Он вдруг забыл о своих опасениях, чувство присутствия рядом нового прекрасного существа охватило его. Двигаясь по комнате, он старался ступать как можно тише; находясь рядом с Викой, сам того не замечая, прислушивался к тому, что происходит в ней; улыбался и даже напевал что-то. Иногда на улице ему чудилось, что сжимает в ладони трепетную нежную ручку — он невольно подравнивал свои шаги к крошечным шажкам ни для кого, кроме него, невидимого шествующего рядом малыша, мысленно низко наклонялся к нему, чтобы просто и весело поведать о том, что происходит вокруг. Будущий ребенок, не заботясь о здравомыслии, обещал ему нескончаемое будущее: он забывал хронологию, видел рядом с собой уже не малыша — прекрасного молодого мужчину (нимало не похожего на его старшего сына — этот пошел в мать, в Анну Семеновну, был невысок ростом и полноват), он вел с прекрасным молодым мужчиной — сыном — ученые разговоры, спорил о политике, заглядывал в кафе выпить чашку кофе с коньяком. Но Вика, не спросясь его, избавилась от плода: «Сперва надо уехать. С ребенком мы застрянем здесь неведомо насколько». Он затосковал, по ночам вдруг просыпался в испуге, будто кто-то грубо встряхнул его за плечи, подолгу лежал тихо, сдерживая дыхание, чтобы не побеспокоить лежащую рядом маленькую женщину, за окном была черная пучина, и светлый месяц, будто переменив назначенный ему во Вселенной маршрут, больше не плыл мимо окна по небу.