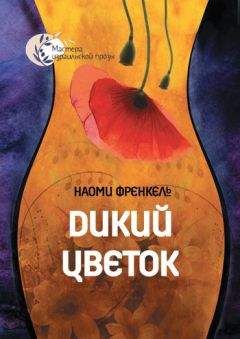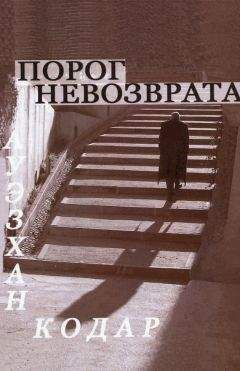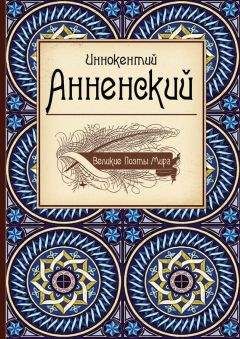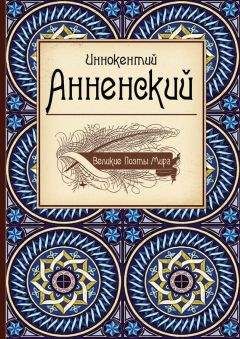Наоми Френкель - «...Ваш дядя и друг Соломон»
«Рами, ты совсем спятил».
«Верно».
«Бери завтра отпуск»
«Но завтра твоя очередь»
«Меняемся».
На рассвете отряд прокладывает дорогу от форта к центральному шоссе. В бронетранспортере я и Мойшеле. В мире безмолвие. Орудия спят, и над Суэцким каналом поют птицы. Еще немного – и вновь зачирикают орудия. Огромное красное солнце уже встало низко над горизонтом, и лучи его преломляются в цветных лужах болот. Бронетранспортер продолжает путь к военной базе, везет нашего командира Моше Домбровского на какое-то совещание. На шоссе нас ожидает джип. Несемся по шоссе, и друг – резкое торможение. Молодой бедуин приволок отрубленное дерево, преградив путь. Протягивает к нам руки. Мы часто раздаем буханки хлеба бедуинам в Синае. Вот и он просит. Соскакиваю с джипа. Я отлично знаю арабский. Ударяю автоматом «Узи» в плечо бедуина. Агрессия сейчас – не в моих руках, она – в моей душе. Кричу:
«Осел, еще раз преградишь шоссе, не бить тебя буду – убью».
Бедуин хихикнул и сказал:
«Ты араб, не еврей. Евреи жалостливы, а ты – нет».
Вернулся в джип, и Мойшеле мне говорит:
«На этот раз ты не выйдешь шататься по пустыне».
«Это мой отпуск или твой?»
«Твой, и ты проведешь его дома».
«Я домой не еду».
«Это приказ. Ты едешь домой».
«Я не подчиняюсь приказу».
Мойшеле неожиданно поднимает руку в воздух движением летящей птицы. Когда мы были юношами, этот знак между нами означал: «Сгинь с глаз». Тогда мы понимали друг друга по мановению пальца. Сижу в джипе и философствую сам с собой: «Сколько времени прошло с тех пор? Не так уж много лет. А вот же состарили нас. Уже и хохотать не можем вместе. Столько друзей ушло на тот свет за эти годы. Мойшеле жив и все же словно бы присоединился к длинной шеренге ушедших. Когда умирает дружба, ты человек конченый».
Прибыли на базу. Мойшеле взметнул руку и сказал:
«Передавай привет дому».
«Домой не еду».
«И привези мне пироги тети Амалии».
Я мчусь домой. Дорога петляет между дюнами. То взлетает, то проваливается, ограничивая видимость. Мойшеле устроил меня в джип к майору Тамиру, едущему в Эль-Ариш. Я – за рулем, и Тамир предупреждает меня:
«Не гони как сумасшедший, Рами».
Я – сумасшедший, ведь я по дороге домой. Добрались до малого моря Бардуил. Зима. Я гоню навстречу зиме, навстречу дождю, навстречу… Адас!
На горизонте уже видны зеленые финиковые пальмы, плантации Эль-Ариша. Зеленые деревья колют глаза, ослепляют посильнее белых песков. Я дурею от этих зеленых деревьев на горизонте. Просто пьянею. А если я пьянею – я пьян. И все безумие опьянения – в колесах джипа.
«Рами, сбавь скорость, говорю, Рами!»
Я сбавил скорость. Увидел ее. Неожиданно возникла перед моими глазами. Сидит на песке, скрестив ноги, свернувшись в черном халатике и прислонившись к такому же черному оторвавшемуся от самолета баку. Когда такой бак освобождается от горючего, самолет его сбрасывает. Форма бака походит на ракету, почерневшую во время полета. Бак врос в песок, острием кверху, подобно дереву. В тени его сидит молодая бедуинка, закутанная в черное. Только светится малая часть белого лица, длинный нос и два серых, больших глаза, воистину прекрасных. Словно удар кулака опускается на мое сознание внезапной мыслью: «Мойшеле послал меня к Адас – освободить нас обоих от непереносимой душевной тяжести, того стесненного состояния, которое не давало нам дышать последние месяцы. Мойшеле – настоящий мужчина. Друг!»
От этой внезапной мысли я торможу на полном ходу. Переворачиваемся. Около этой дочери пустыни. И я еще слышу крик Тамира:
«Рами, что с тобой?»
Майор вышел из аварии без единой царапины. Несколько ударов. К этому мы привычны. Я же очнулся в беэршевской больнице. Немного помятый. Но не страшно. Сказали, что и джипу не был нанесен значительный урон. У меня левые рука и нога в гипсе. В общем, легко отделался.
Адас приехала ко мне в больницу. Увидел ее раньше, чем она заметила меня. Белая шерстяная кофточка по фигуре и юбка, как бы завернутая наискось, как парус, наклоненный под ветром, мгновенно привлекли взгляды раненых солдат, провожающих ее проход между коек. Дождь бил в окна, о, как бы мне оказаться под его струями!
Адас была передо мной, и я так хотел ее. Не знал, куда деть себя со своим разбитым лицом. Она же прижалась губами к моим – рассеченным. Обняла за шею, а я ведь лежу навзничь, на горе подушек. Она прижалась ко мне, и такое было ощущение, что здоровье прижалось к болезни, но никакой связи не возникло. Я не мог это вынести, отодвинул ее здоровой рукой. Она была смущена. Схватила бутылку с соком, стоящую на столике, на минуту став сестрой милосердия:
«Хочешь пить?»
«Сок обжигает губы».
«А разговаривать тебе не больно?»
«Язык как раз в порядке»
Замолчали, как будто уже все сказали друг другу, что хотели сказать. Адас абсолютно не умеет лгать и притворяться. Видно было, что ей нелегко смотреть на меня такого. Взяла вечернюю газету, развернула, но, не прочитав ни единой строчки, сложила. Была печальна. Как пожалеть ее, когда все мое тело болит? Спас меня Амос, танкист, лежащий рядом, раненый осколком в ногу:
«Рами, это твоя девушка?»
«Она».
«Чего же ты не рассказывал о ней? Ведь я вижу, есть о чем рассказать»
«Из-за медсестры Арны. Не хотел, чтобы она знала об этой».
Мы смеялись. От смеха боль во мне усилилась. Адас же смеялась, запрокинув голову, и волосы падали на меня. Я схватил их и притянул малышку ко мне. Здоровой рукой обнял ее, она свернулась вся в моей руке, как проглоченная ею. Я же был поглощен запахом ее тела. Сказал ей, расчувствовавшись:
«Просто стыд, лежа в больнице, так не сдерживать свое сердце».
«Не просто стыд, а позор, Рами».
«Тебе не мешает, что мое лицо – вовсе не мое? Я ведь выгляжу, как побитый пес».
«Вот еще, Рами. Если ты выглядишь, как пес, так ты что – пес?»
Я погладил ее по спине. Спросила:
«Где тебя ранило?»
«По дороге домой. Видишь, какой я невезучий и лишенный вкуса парень?»
«Почему?»
«Во время войны меня ранило в дорожной аварии».
«Выздоровеешь».
«Не везет мне».
«Что тебе не везет?»
«Участвовать в войне до самого ее конца. Нога у меня солидно пострадала».
«С ногой будет все в порядке».
«Конечно. Но не так-то быстро. Пока она выздоровеет, война кончится, я не вернусь в форт и опять окажусь в проигрыше».
«Что же ты проиграешь?»
«Не смогу быть там со всеми. Это проигрыш немалый».
«Но и не такой большой. Главное, выздороветь».
«Что ты все время говоришь о здоровье? Не выбрали ли тебя в кибуцную комиссию по здравоохранению? Быть может, и ко мне приехала по должности, а не…»
«А не по должности твоего греха?» – и она с такой силой надавила телом на меня, что я счел нужным предостеречь ее:
«Ты еще ухудшишь мое здоровье».
Опять свернулась в моей правой руке. Закрыла ладонью напухший глаз и поцеловала здоровый. Сказала голосом, в котором было больше отчаяния, чем радости любви:
«Рами, возвращайся ко мне домой, слышишь, возвращайся ко мне домой».
Вернулся домой, но пришел день прощания. И снова пустыня скачет на мне верхом. Высота наша плывет как Ноев ковчег на белых волнах, стремясь к белеющему горизонту. Но только волны-то эти – песчаные. Слои песка раскаляются под солнцем, ослепляя глаза до такой степени, что они словно замыкаются в лице, и ничего не видят вдаль. Асфальтовое шоссе петляет по пустыне, спускается и поднимается, доходит до одинокой пальмы Она вздымается в небо, гордясь перед всем этим плоским пространством. Пальма – ориентир, указывающий путь к лагерю-поселению отряда боевой халуцианской молодежи.
Тут у меня жизнь более почетная и упорядоченная. Окружен забором. Ворота закрыты. Защищен от мин. Место уединенности или одиночества? Я здесь по желанию Адас. Малышка просит меня и Мойшеле отдалиться от нее, чтобы она смогла разобраться в своих чувствах. Да будет так. Снова я надел форму и украсил бородой значительную часть лица. Такой бороды у меня не было даже в тяжелые дни в бункере под обстрелом. Могу сказать, что если раньше я имел лицо, теперь имею бороду без лица. Ладно. Я чувствую себя неплохо среди этой шумной молодежи. Среди них я старый ветеран-бородач, командир отряда молодежи, расположенного лагерем у пальмы. Что несет мне будущее? Не знаю. Как-нибудь образуется.
Глава одиннадцатая
Соломон
Жара усиливается. Пришли весенние хамсины. На наших грядках цветут белые хризантемы, которые еще посадила Амалия, и я собираю из них букет – нести на ее могилу. В эти ранние утренние часы я здесь один. Кладбище у подножья горы утопает в разноцветьи. Могилы в цветах, гора зелена. Деревья поднялись высоко. Много лет назад, когда мы только пришли сюда, здесь были одни камни, колючки и потрескавшаяся от пекла земля. Сейчас ветвятся кронами кипарисы и сосны, и лучи солнца, пробиваясь через них, посверкивают сиянием на могильных камнях. Птицы чирикают в гуще сосны, колышущей тени на могиле Амалии. Каждый день я прихожу сюда, чтобы очистить могилу от сорняков и положить свежие цветы на этот черный холмик. Имя Амалии еще написано на простой фанерной дощечке. Гляжу на ее имя и думаю: «Нельзя говорить, что это было. То, что было, есть и вечно будет».