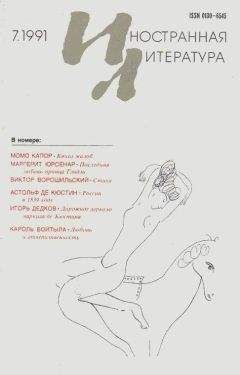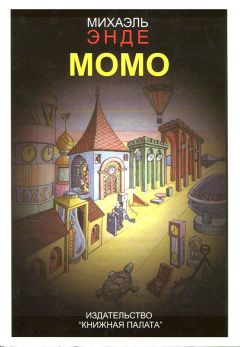Фигль-Мигль - В Бога веруем
Выглядит же он хорошо, бесстрастно, видна больничная ухоженность, видно, что старик не брошен, не предоставлен (вопреки, быть может, его желанию) самому себе, не отдан болезни на растерзание. Диким зверем болезнь сидит в клетке, а Аристид Иванович — с той стороны решетки — и рад бы, предположим, броситься в ее пасть, но предусмотрительно, безжалостно от этого защищен; руку, ладно, сквозь прутья можно просунуть, — но что же это, если хочешь, например, смерти, а приходится жить… с изглоданными руками… И взгляд какой-то изглоданный! Вы приметили? Что, попытаемся его раскрутить, узнать, какие видения тревожат спящий разум? Как-то это негуманно? Негуманно! Чего ж у вас глаза заблестели, если негуманно? Эй, Аристид Иванович!
— Аристид Иванович! — окликает старика Лиза.
С воли в окошко больничной палаты заглядывают кусты жимолости, небо опускает голову, клочком облаков попадая в проем, верхний правый угол, в образованный рамой и решеткой квадрат. На окне здесь решетка. Внушительная крупная тень решетки прочной вещью лежит на полу. Неожиданно все исчезает, легкомысленное облако сменяется кулаком тучи, надутой, как злобой, дождем. И дождь сперва шуршит, растворяя пыль, потом стучит, потом хлещет.
Аристид Иванович, поджав ноги, сидит на кровати и смотрит в никуда. Он говорит:
— Лиза, не давай меня закапывать. В этих могилах столько воды.
— Значит, кремация, — говорит Лиза.
— Да, да, — торопится Аристид Иванович, — кремация. Это хорошо.
— Хорошо, — говорит Лиза.
Она садится рядом с ним (поглубже, приваливаясь к стене), и оба молчат и смотрят, словно некто показывает им важные увлекательные картинки. От шума дождя сильнее начинает шуметь в ушах кровь. Два лица — старое и молодое, отрешенное и угрюмое — обращены к шершавой белой стене. (А палатка-то невелика, кажется, что, сидя на кровати, можешь пощупать противоположную стену.)
— Зачем все было? — спрашивает Лиза у стены. Аристид Иванович так и понимает, что вопрос не к нему. Он молчит, шевелит губами, беззвучно спрашивая о чем-то своем. Предполагается, очевидно, что ответ (может, будет ответ, может — нет) явится один на все вопросы — птичкой отделившись от стены или буквами просияв на стене. Огненными знаками, которые выжгут побелку, краску, штукатурку, внимательные глаза.
— Или есть зло, которого мы боимся, или же самый страх есть зло, — бормочет Аристид Иванович машинально.
— И вовсе не так.
— А как?
Лиза отмахивается. Аристид Иванович хлопает глазами.
— Проверь, проверь, — говорит он встрепенувшись, с осмысленной сварливостью. — Там все написано.
— Где?
— Где-нибудь, — отвечает старикашка, поразмыслив.
— И мне прочесть все книжки, чтобы это найти?
— А ты как хотела? — удивляется он.
— Откуда мне знать, чего я хочу, — признается Лиза неохотно.
— А, — говорит Аристид Иванович, — да. Не бойся, так бывает.
— Тоже написано?
— Конечно.
Они возвращаются к созерцанию, но теперь им не сидится: она его осторожно подпихивает, он ее легонько отталкивает. Это похоже на игру (хотя бы беззлобностью, даже застенчивой лаской движений), это не игра. Что-то между ними лежит — обида? невыговоренная боль? или слишком хорошо они друг друга понимают? не могут простить друг другу рокового, неуместного сходства? — начинается, короче, игрой, шуткой, ласково, а заканчивается серьезными щипками и тычками, последней перед слезами минутой. И некому разнять, остановить, сказать: хороши, старый да малый! Только гроза (черное лицо, электрические глаза) приводит их в чувство. В особенно тяжелом раскате грома, особенно блескучей молнии есть благодетельная сила пощечины. “Не написано ничего”, — шипит Лиза по инерции. “Не будь дурой”, — вежливо парирует Аристид Иванович. Замирая (от тел до оскорблений на языке, в такой последовательности) под гневным окриком неба, они все забывают и только теснее жмутся. Так смолкает распря слуг, когда через комнату проходит хозяин, так дети кидаются каждый к своей парте, заслышав учительский рык, и наступает тошное, пустое мгновение оцепенелого нерассуждающего страха, не способного вымолвить слова мольбы или молитвы. (А внутри мгновения, в его огромной пустоте, глухо рокочет судьба.) Они сами не заметили, что схватились за руки, что пот течет как вода. Больничная палата, качнувшись между тюрьмой и кладбищем, замерла в точке “склеп”, в котором живых то ли намеренно замуровали, то ли по ошибке похоронили.
Гроза пронеслась, как завуч по школьному коридору, оставив после себя обломки хрупкой жизни и лужи слез, и в ту же минуту ее не стало. Возвращаясь домой, Лиза не верит, что могла так глупо испугаться. Испугаться грозы — заурядного, безопасного (в данный момент, в данном месте, в пекле цивилизации) природного явления! Молодым безжалостным богом природа явилась людям на фоне многоэтажных зданий, троллейбусов и громоотводов — это глупо, глупо, смешно! В троллейбусе ее отрезвляют пугающие запахи человеческих тел. Лиза садится у окошка, на никем не занимаемое мокрое место (дождевая вода все еще слабо капает откуда-то с проржавевшей крыши). Неподвижная, она едет сквозь мир физики и атмосферных и электромагнитных явлений.
о необитаемых островах
Негодяев встречает нашу компанию задумчивым взглядом. Мы выталкиваем Лизу вперед и смотрим, что будет. Приветик, говорит Лиза. Негодяев кивает и отворачивается по своим делам.
Не тонкий слой льда образовался между ними за время разлуки, за несколько часов, но полное доподлинное обледенение! Настоящий ледниковый период, с торосами, айсбергами, белыми медведями, километровым слоем вечной мерзлоты. Этого льда хватило бы, чтобы вымостить им космос! Взгляды, сталкиваясь, крошились, как сосульки. Твердые ледяные слова приходилось выталкивать изо рта языком — или даже вытаскивать, глубоко запуская в рот пальцы, с кусочками кожи выдирая колючие зазубренные куски слов, сглатывая кровь. Понадобились долгий обед и бутылка вина, чтобы эти люди вспомнили, что они не чужие.
— Давай, может, уедем? — предлагает Негодяев, собирая посуду.
Лиза разглядывает вино на свет.
— Куда? — спрашивает она.
Негодяев пожимает плечами. Мир велик, хочет сказать он, но не говорит, умница, поскольку знает, что мир совсем не велик, уже очень давно не велик, практически сжался до размеров захлестнувшейся на горле петли. Сейчас будет злая антиглобалистская соляга? Сейчас по лбу получите за свои подъебки, вот что будет. Большое спасибо, и вам того же… интересно, остались ли еще где-нибудь необитаемые острова? Предприимчивый друг, вы не можете без конфуза. Какие-какие острова? Ведь если вы отыщете где-нибудь необитаемый остров и захотите его присвоить, вам не придет в голову, что необитаемых островов не существует и никогда не существовало, что везде обитают зверьки, травки, насекомые, которые, скорее всего, имеют что возразить против затеянной вами колонизации. Будь в распоряжении песцов и норок атомная бомба, они бы мгновенно обросли в глазах человечества разнообразными правами и суверенитетом… А вы почему об островах вспомнили?
— Можем поехать на Корфу, — говорит Негодяев. А у них есть деньги куда-либо ехать, на что они, вообще-то, живут? Вообще-то, знаете, живут на что-то — как все. Корфу не Корфу, а какой-нибудь сарайчик в пампасах — легко. Вопрос, как всегда, упирается не в бабло, а в желание, в героическую готовность всех послать, на все плюнуть. Есть на что плевать? Как не быть — у Негодяева такой веселый затейливый нрав, все его любят, балуют, в зубы заглядывают, то есть в рот. Говорили, однако же, что он сдал. Да. Это случилось из-за ерунды, судьбы, непредвиденного разлада имиджа и человека. Судьба надавила посильнее — и имидж вышел из пазов: не так, конечно, чтобы вся рухнула конструкция, но достаточно для возникновения прочного чувства ненадежности, разболтанности, шаткости. Имидж ходит туда-сюда, человек скрипит и корчится. Пххе! Интересно, он понимает, что с ним происходит? Когда-то он говорил, что шекспировский персонаж не может долго и безнаказанно подавать себя в стилистике MTV. Оказалось, что и стилистика Шекспира разъедает эмтивишных персонажей. Брошенные в пространство страстей и памяти, тела расслаиваются, и вот шелухой летят одежда, слова, жеста, позы, знаки препинания, убеждения, заветные мысли, цивилизация, культура, инстинкт — от имиджа не остается ничего, а от человека — и того меньше. Память — штука пострашнее голода, голод щадит хотя бы безусловные рефлексы, память уничтожает все, к чему прикасается (в милосердных скобках оставляем память страсти и память о страсти). “Хотелось бы также знать, дотла я сгорел или еще нет”, — думает Негодяев. “Чего стоят размышления пепла о пламени?” — думаем мы. А при чем тут Шекспир, из-за чего все разладилось? Шекспир — это метафора. Тогда и о. Корфу понимать метафорически? Нет, о. Корфу понимать как о. Корфу.