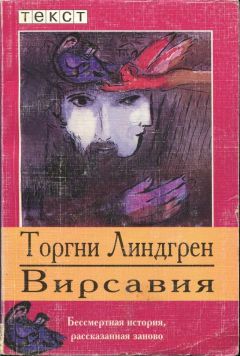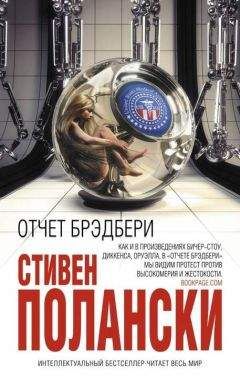Торгни Линдгрен - Похвала правде. Собственный отчет багетчика Теодора Марклунда
Когда я вернулся к Гулливеру, он словно бы спал, но, как только я сел в кресло, немедля открыл глаза и посмотрел на меня, слегка озабоченно и вместе преданно.
— К тому же она оказалась всего-навсего подделкой, — сказал он. — Чертовски хорошей, надо признать, но тем не менее чистейшей фальшивкой.
— Как ты смеешь! — воскликнул я. — Как у тебя, черт побери, язык поворачивается говорить такое!
Я все еще думал о Паулиной матери. И о похоронах.
— Мы показали ее эксперту, — пояснил Гулливер. — И он сказал, что это действительно шедевр, однако же, черт побери, подделка.
Тут я сообразил, что он толкует о «Мадонне».
— А мы в консорциуме люди честные, — продолжал он. — Мы не хотим толкать на рынок поддельные картины.
— Так-так, — сказал я. — Эксперту, стало быть.
— Я его не знаю, — добавил Гулливер. — К нему ходили стокгольмские ребята. Но, говорят, он разбирается лучше других. В фальшивках и подлинниках.
— На сей раз он ошибся, — сказал я. — Картина настоящая, подлиннее просто не бывает.
— Можешь сам с ним поговорить, — предложил Гулливер. — Я узнаю имя. Ребята называли его Эспаньолкой. Мне известно только, что живет он на Дёбельнсгатан.
— В этом нет нужды. Я знаю, что она подлинна. И мне этого достаточно.
— Подлинник по-прежнему висит у судебного исполнителя, — заметил Гулливер.
— Да. Там тоже подлинник.
Перед уходом он сказал:
— Мы думали, ты будешь благодарен. А ты прямо как кремень. Вообще-то нам пришлось изрядно потрудиться ради тебя. Ты ведь пытался обвести нас вокруг пальца. И мы бы могли возмутиться, вознегодовать. Но подставили другую щеку. Сукин ты сын!
Когда он наконец оставил меня одного, я раскрыл створки и поставил «Мадонну» на подлокотники того кресла, где сидел Гулливер. Она нисколько не пострадала, краски остались чистыми, неиспорченными, царапин нет, консорциум, ребята и Гулливер обращались с нею так же бережно, как и я сам. С помощью лупы я сразу отыскал крошечное малиновое пятнышко, подпись Эспаньолки. Я видел его, даже сидя в кресле, невооруженным глазом. И когда встал, отошел к двери и хорошенько всмотрелся, то видел его по-прежнему. Крошечная цветная точка не изменилась, осталась такой же неприметной, как раньше, но мои глаза вдруг сумели ухватить ее, и она сверкала, пламенела словно микроскопический бенгальский огонек. Меня это ошеломило.
Я зажарил селедку, а потом вновь сложил «Мадонну» и засунул под кровать. А после полночи не смыкал глаз, пытался придумать для Паулиной матери красивые и достойные похороны, нет, даже не одни, а сотни возможных похорон, мне хотелось, чтобы Паула могла выбрать те, какие ей больше всего понравятся.
~~~
Мы выбрали Лесное кладбище. У Паулы было три свободных дня между Умео и Карлстадом — вторник, среда и четверг, через две недели после несчастья в Вестеросе. Собственно, они с пластическим хирургом думали слетать в Париж, а теперь вместо этого пришлось устраивать похороны.
Гроб был из красного дерева, с прямыми боковинами и крышкой, выглядел он скорее как ящик для документов, какие делали в эпоху Возрождения, по большому счету в нем могло лежать что угодно, на крышке и по углам — резные накладки в виде веточек хмеля, цветка эскапизма и простодушия.
Из живых цветов мы заказали только розы и лилии. Панихиду служил пастор из Союза освящения, мы нашли его имя в телефонной книге, голос у пастора был крикливый, тонкий, и он все время краснел от возбуждения, а после сказал нам, что это была самая памятная служба в его жизни. Речей никто не произносил. Двое учеников из Государственной школы сценического искусства прочитали стихи, «Когда луна заходит» Леопарди и «Девушка ровно в двенадцать» Клоделя. Стихи выбрала Паула.
Один из ее гитаристов записал «Усни у меня на плече», студия «Паула мьюзик» сделала двухчасовую копию, динамики спрятали за цветочными композициями.
Паула была одна, хотя, в общем-то, нет, я шел рядом с нею, сидел подле нее. Но никто ее не поддерживал, никто не сжимал ее руку, я шел с левой стороны и не мог заставить себя протянуть ей протез, да и она, скорей всего, не захотела бы на него опереться.
Забыл сказать: протез я получил накануне похорон. Временный, но вполне удачный: рука с ногтями на пальцах, с жилками, даже чуть волосатая, можно было брать и держать разные вещи.
Однако полностью отлучить Снайпера нам не удалось, Бог весть каким образом, но он узнавал все, что ему хотелось знать.
Снайпер пригласил человек сто, чтобы все они пожали Пауле руку и произнесли несколько утешительных слов. Артисты, спортивные звезды, миллионеры, адвокаты, двое-трое политиков, один кинорежиссер, один диктор с телевидения и писатель Лapc Форселль от Шведской академии. Я никого из них не знал.
Он заказал и венки, оплаченные компанией «Паула мьюзик». От короля и королевы. От принцессы Виктории. От шефа Государственного совета по культуре. От главного редактора «Экспресса». И огромную композицию с папоротниками от Союза имени Фредрики Бремер. Можно подумать, хоронили саму Паулу, а не ее мать.
Эксклюзивное право на освещение похорон он продал «Шведскому женскому журналу».
Так и вышло, что это единственное подлинное событие было тщательно сфотографировано, описано и приобрело публичную огласку.
На протяжении всей церемонии Паула плакала, беззвучно, как бы про себя, время от времени утирая щеки носовым платком. И руки у нее дрожали, я видел.
Когда же нам первыми из всех нужно было подойти к гробу и положить на крышку свои белые розы, силы ей изменили, она задрожала всем телом, ноги подкосились, так что мне пришлось обнять ее за талию и довести до места, а когда мы остановились и, как положено, склонив голову, смотрели на гроб, она разрыдалась, и уже не беззвучно, при всем желании никто не мог расслышать «Усни у меня на плече», горе выплеснулось из нее криком, она просто звала маму, кричала так страшно, так истошно, что сидевшие рядом поневоле деликатно закрыли уши ладонями, я видел. Ведь все знают, голос у Паулы из самых сильных в Швеции.
Я совершенно растерялся, попробовал успокоить ее, поглаживая протезом по спине, но безуспешно.
Как вдруг я заметил, что кто-то бежит к нам, кто-то сидевший в дальнем конце зала, он бежал, лавируя меж рядами стульев, полы пиджака развевались, волосы торчали вихрами; оказавшись рядом, он тотчас заключил Паулу в объятия, погладил по голове, по щекам, тихонько что-то приговаривая, что именно — я не разобрал. И Паула умолкла. Еще некоторое время плечи ее вздрагивали, потом он отпустил ее, и она закрыла лицо руками, но громкие рыдания прекратились.
В «Шведском женском журнале», а позднее и в других газетах и журналах подписи под фотографиями гласили: «Домашний врач Паулы».
Это был пластический хирург. Я увидел его впервые. И выглядел он не так, как я ожидал. Мы с ним довольно долго стояли рядом, на снимках видно, как я смотрю на него. Пристально, испытующе — написал бы журналист.
Ростом он оказался пониже меня, волосы темные, зачесанные назад, брови тоже темные, кустистые, губы крупные, красные, прямо как накрашенные, на подбородке ямочка. Похож на Клауса Манна с рисунка Дарделя. Только этот Клаус Манн намного старше. И мы не сказали друг другу ни слова.
Когда мы с Паулой повернулись и пошли прочь по центральному проходу, он последовал за нами. Но где-то по пути отошел в сторону и смешался со знаменитостями, на фотографиях его не видно, там только Паула и я, она опирается на меня и вроде как прячет руку у меня под мышкой.
Мы не обращали внимания на всех этих гостей, которых не приглашали. Что они делали после нашего ухода, я не знаю, может, еще некоторое время сидели и слушали «Усни у меня на плече». А мы пошли прямиком к станции «Лесное кладбище», сели на метро и доехали до «Т-Сентрален», только белка проводила нас до самого выхода на платформу.
Потом мы зашли в итальянский ресторанчик на Апельбергсгатан. Паулу никто не узнал, можно было посидеть спокойно. На сей раз она и телохранителя с собой не взяла, решила обойтись без него и в кои-то веки настояла на своем. Паула заказала пиццу, я — телячьи котлеты. И три рюмки водки. За помин души.
Я сидел и смотрел на нее. Слезы смыли косметику. На фоне черной одежды лицо казалось совершенно белым, щеки и подбородок по-прежнему мягко круглились, как у ребенка. И мне подумалось, что внутренне она необычайно чистая, неиспорченная, что сердцевина у нее прочная, неподдельная. Она никогда не сможет сделать ничего дурного. Говорили мы мало.
— Красивые были похороны, — сказал я.
— Ты так думаешь? — отозвалась Паула.
Мы словом не обмолвились о том, что, собственно, похоронили на Лесном кладбище. Никто, кроме нас двоих, этого не знал, даже «Шведский женский журнал». А были это шестьдесят восемь килограммов «Новостей недели», за 1988–1992 год.