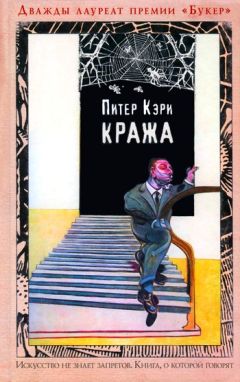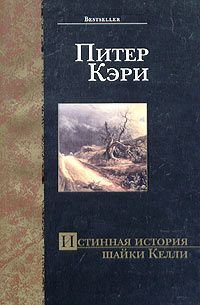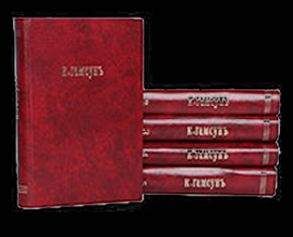Питер Кэри - Моя жизнь как фальшивка
– Ехал на пароходе, – преспокойно продолжал он, – с севера Суматры до Пенанга. Жуть. «Лорд Джим» [72] или еще похуже – малайцы, скучившиеся на нижней палубе, в грязи, темноте и вонище. Деревенский люд, они были ко мне добры, хотя я все время нервничал и совал каждому под нос этот рисунок углем. Сперва они не понимали, о чем я говорю, но когда мне удавалось объяснить, они очень сочувствовали мне. Когда мы причалили у Свиттенхэм-пирса, все пришли попрощаться – все пятьдесят человек пожелали мне удачи. Но как только я увидел Пенанг, тут-то и понял, каковы мои шансы. Иголка в стоге сена. Безнадега. В конце концов я оказался в отеле – симпатичная колониальная постройка, позади волны разбиваются о мол. Высокие пальмы, официанты – китайцы в накрахмаленных белых куртках, каждому пол-тыщи лет, прославленный Альберт Йео [73] играет «Мисти» [74]в баре «Якорь». В такое местечко водят смазливых баб, но моя любовь не была взрослой, и в разлуке с ней я не знал покоя. Я писал стихи за чугунным столиком в саду. Мучительно, словно вырезал каждое слово на собственном сердце, но по крайней мере вспомнил, что я – поэт! Проработав столько лет в редакции, я прекрасно знала, как обманчивы голос и внешность поэтов, но трудно было устоять перед Кристофером Чаббом, когда он разгонялся вот так, во всю прыть.
– Дадите почитать эти стихи? – попросила я.
– Ха! – Он резко вздернул голову. – Вы их уже читали.
– Нет, другие, – те, что вы написали в Пенанге.
– Вы видели их.
От его кривоватой усмешки меня передернуло.
– Так значит, вы – Маккоркл! – сказала я. – Вы и меня провели!
Странный, придушенный вопль сорвался с его губ; он обеими руками сжал голову, пригибая ее, словно пытаясь втиснуть в грудную клетку.
– Вы совсем не слушали!
Я попыталась возразить, но он грубо перебил меня:
– Если б я мог написать такие стихи, как Маккоркл, неужели я бы отрекся от них? Нет уж, слушайте до конца. Вы что, думаете, эта боль мной придумана? – Он несколько раз ударил себя кулаком в грудь. – Кто, кто хотел бы оказаться на моем месте?
– Извините, долгий разговор – я, наверное, что-то пропустила.
– Так поймите же! – яростно кривя рот, настаивал он. – Я – Чабб. Маккоркл – это он!
– Какая-то загадка.
– Нет тут никакой загадки, на хрен! Никогда, никогда не создать мне таких стихов. Вы хоть понимаете, каково признаться в этом?
– Но когда же я могла прочесть стихи, написанные вами в Пенанге?
Он с ухмылкой достал из внутреннего кармана записку и выложил ее на стол. Даже сидя напротив, я без труда узнала свой почерк.
– Вы отвергли их в 1959 году. Наверное, стихи Маккоркла тоже отвергнете, а?
– Мне бы хотелось сперва их все-таки прочесть, – ответила я.
– Сначала запишите мой рассказ, мисс. Потом посмотрим.
Что я могла поделать? Пришлось снять колпачок с его отвратной миниатюрной ручки.
И как раз этот момент Джон Слейтер выбрал для того, чтобы спуститься к нам из бара у бассейна. Огибая бортик, он размахивал билетами на самолет.
Убирайся! – мысленно заклинала я. Он не знал, какой разговор прерывает. Подошел и бросил билеты мне на колени.
– Все в порядке. Восемнадцатого.
Он выполнил мою просьбу, но я не стала благодарить. Мне одно требовалось: сплавить его поскорее. Я сказала Слейтеру: оказывается, мне уже доводилось читать поэзию Чабба. Таким образом я хотела показать, что разговор между нами – сугубо частный. Слейтер преспокойно отодвинул от стола ротанговое кресло и уселся между нами.
– Она оценила твое творчество, старина? О, мисс Вуд-Дугласс из молодых да ранних. – Он похлопал меня по коленке. Я сбросила его руку и злобно зыркнула на него. Слейтер заказал сингапурский слинг на всех.
– Микс, дорогая, как звали твою ядовитую подружку? Аннет?
– Отстаньте, Джон!
– Заметь, Кристофер, эти две девчонки в зрелом четырнадцатилетнем возрасте начали поправлять старших.
– Что вы за свинья!
У него даже румянец на щеках заиграл, когда он дразнил меня. Все так же ухмыляясь, Слейтер взял со стола конную фигурку ангела, повертел ее в руках.
– Свинья, дорогуша? Скорее уж соня. Они разукрасили мои стихи красным карандашом. Представляешь, Кристофер? Соплюшки, от земли не видать. Они вырывали страницы из сборника и посылали их мне – с примечаниями и исправлениями.
– Всего один раз, Джон!
– Десять раз, по крайней мере. Конечно, я прощал тебе, Микс, на то причин хватает. Но я боялся тебя.
Он ухватил меня за руку, и к моей досаде прибавился ужас, когда в его глазах я разглядела слезы.
Чабб, вероятно, тоже их увидел и поспешил откланяться. Я взяла Джона за руку, вернее – вложила свою ладонь в его. Старый козел был так добр ко мне – сами по себе меня его сантименты нисколько не смущали, но переговоры с Чаббом за его спиной показались вдруг обманом, грубой уловкой.
– Джон, мне так и не удалось опубликовать великие стихи.
Джон сморгнул:
– Ты с чего вдруг?
– Ни с чего. Я все время думаю об этом.
– Что ж, дорогая! А я так и не написал великие стихи.
Вспоминая ту минуту, я жалею, что не нашла в себе силы возразить. Я лишь поцеловала ему руку. Ужасно предлагать одно сочувствие.
33
ПОСЛЕ ЛАНЧА КАК-ТО САМО СОБОЙ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО симпатичная гостиница в Пенанге, где жил Чабб, была «Восточно-ориентальным отелем». С чего вдруг нищий поэт поселился в «В. О.», «Все Отдай», как шутили в ту пору? Тогда мне еще не довелось побывать в Пенанге, однако «В. О.» был также знаменит, как сингапурский «Раффлз», местечко для «настоящих сахибов», где останавливались резиденты, раджи и те жуткие «туикнемские герцогини» [75], что собирались в пятницу вечером на лужайке громко жаловаться на прислугу. Хотя в подобные заведения порой допускают гостей без фрака – например, богатых рудокопов, которые проезжают на муле сотни миль через джунгли, чтобы съесть второй завтрак в главном зале, – такой оборванец, как Чабб, не мог их не смутить. Я спросила, как его приняли.
– У меня были австралийские фунты, – резко ответил он. – Обменный курс так и скакал.
Что это подразумевало, я так и не поняла. Денег у него оставалось мало, поселившись в «В. О.», он сам себя обрекал на скорое разорение. Может, хотел скорее остаться без денег и прекратить на этом поиски? Я высказала это предположение: ему, дескать, приходилось выбирать из двух зол.
– Нечего тунжук! – рявкнул он. – Знайте слушайте!
На утро его проводили к столику возле старой войлочной ширмы, которая вовсе не приглушала неумолчный скрип и хлопки кухонной двери. За тем же столиком сидел темнокожий тамил и неистово возмущался своим завтраком.
– Что поделать, мем, это Сибирь, – продолжал Чабб. – Мне было уже наплевать, но индиец впал в ярость. С ним, дескать, не считаются. А он был культурный человек, умный, с хорошо подвешенным языком. Гонял официантов. Потребовал к себе метрдотеля, шотландца с густыми рыжими бровями. Хорошенько пропесочил и его: яйца, мол, несвежие, точно в Итоне. Шотландец убить его был готов. Схватил тарелку со стола, еда полетела на пол.
– В самом деле? – спросил я тамильца.
– Что еще «в самом деле»?
– Вы учились в Итоне, туан?
Вопрос напрашивался, но вы бы видели его гримасу. Чхе! Что еще за идиот? Конечно, нет, он сикгу, школьный учитель. Преподает химию и физику.
– А вы? – спросил он и насмерть заскучал, не дожидаясь ответа.
Я сказал, что ищу украденную дочь.
Метрдотель принес очередную порцию яиц – того же урожая, что и предыдущие, – однако настроение моего тамила заметно изменилось. Он оттолкнул тарелку и повернулся ко мне: один глаз на горшок, другой на дымоход, как говорится. Здоровый глаз – или больной, кто знает? – был устремлен на меня.
– Стекло разбилось о камень, – произнес он. – Как вы страдаете, должно быть.
На мою долю выпало немало сочувствия, но асимметричная красота индийца потрясла меня – этот человек знал, что такое страдание. С первого взгляда я всей душой привязался к нему.
Я выложил на стол портрет чудовища и моего ребенка. Индиец уставился на него, нахмурившись, ноздри его раздувались. Легкой ладонью он коснулся моего запястья.
– Рикши вам помогут, – сказал он – очень ласково. – Поговорите с ними. Все, что надо – небольшой бакшиш.
– Бакшиш?
– Пару долларов, мелочь на чай.
Одет он был, как положено школьному преподавателю: наглухо застегнутый пиджак с серебряными пуговицами, в кармане – ручки и карандаши, но меня насторожили огромные золотые часы, свободно болтавшиеся на левой руке. Кто его знает, что этот человек сочтет мелочью? Я сказал:
– Моя дочь, возможно, уже мертва.
Он перекрестился. Нельзя так говорить! Он отвечал мне решительно, бескомпромиссно, как человек, привыкший отдавать приказы или как упертый малый с навязчивыми идеями. Выхватив из кармана ручку, он постучал ей по носу Боба Маккоркла.