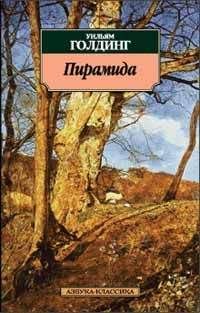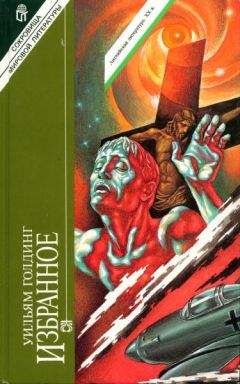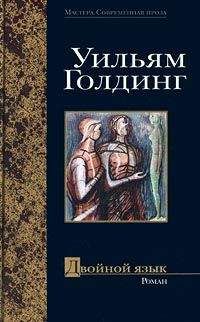Сигурд Хёль - Заколдованный круг
Вечера стояли долгие и светлые, воздух был такой чистый, что дышать приятно. Всякому известно, что на сетере любая хворь пропадает.
На камне у входа засиживались за неторопливыми разговорами до полуночи: здесь высыпаешься быстрее, чем внизу в селении.
По утрам над всеми сетерами вокруг озера подымался голубой дымок. Голоса далеко разносились в тишине. Коровы радостно мычали, завидев друг друга. Телята рыли землю копытцами, ревели, делали вид, что они большие быки. Иногда среди всех этих звуков раздавался собачий лай: на сетере Нурбю держали щенка, который повсюду совал нос.
Здесь на пастбищах сейчас целая деревушка.
Понемногу коровы стали отходить, шерсть у них снова заблестела. Рано утром они чинно выходили из калиток одна за другой и двигались к лесу, вечерами в том же порядке — обратно. Впереди всегда корова с колокольчиком. Странное дело, она ни разу не водила стадо точно по старому пути. Может, по ночам придумывала, куда бы повести коров наутро?
Случалось, в тех краях попадался весной или осенью медведь; но служанки на сетерах медведей не боялись — здесь уже много лет не слыхивали, чтобы медведи драли скот. Почуяв дым и заслышав голоса, медведь обычно уходил дальше в лес. Там, в самой чащобе, он, верно, питался муравьями, — мышами, корнями и шмелиными гнездами, пока в конце июля не поспевала черника.
Прожив пять счастливых дней на сетере, все трое вернулись в селение. Кьерсти, падчерице Рённев, в начале июня исполнилось двенадцать. На будущий год, когда ей будет тринадцать, ей разрешат пробыть на сетере полмесяца. Тогда она научится сбивать масло, варить сыр и печь коржики. Что на свете вкуснее коржиков…
Внизу, в Нурбюгде, было так же спокойно, как и на сетере, — а может, даже спокойнее. В Ульстаде одна служанка управлялась со свиньями, курами и двумя оставшимися на хуторе коровами. Овец выпустили в лес, козы паслись на выгоне и сами возвращались к вечеру. Хусманы сидели по домам, в усадьбе из мужчин остались Ховард и Ларс. Колокол не звал работников на обед, тихо было в это время года и на других усадьбах. Тун зарос травой, как и тропинки между постройками.
Ховард с Ларсом потихоньку занимались делом — чинили изгороди, рубили дрова, чистили сеновал, чтобы все было готово к сенокосу. На сеновале они наткнулись на курицу, она спряталась там и высиживала яйца, они ее не тронули.
Весь день в селении было тихо. К вечеру все замирало, были слышны голоса на том берегу озера.
— Похоже, хорошее лето выдастся, — доносилось оттуда.
— Да, и ячмень неплох.
Так оно и было.
Вместе с неторопливыми, далекими голосами доносился запах клевера и меда, влажно пахло тиной, тысячелетником и шиповником и множеством всяких цветов; запахи сплетались в воздухе словно бы в душистый луг, напоминая, что на дворе лето.
Вот и июль наступил. Через десяток дней сенокос. Его приближение чувствуется — будто он там, за холмом. Тогда все кругом оживет. По всей Нурбюгде разнесутся голоса мужиков, отбивающих косы, и станет слышно, как с сочным звуком падает под косами трава, когда во всех усадьбах начнут косить. Но пока в селении тихо с утра до ночи, и отдаленное собачье тявканье кажется оглушительным, как неожиданный вопль.
Люди стараются разговаривать тише, чем обычно. Птицы уже не поют так, как месяц назад, а носятся весь день напролет за мухами и комарами для своих ненасытных птенцов. Наверное, среди птенцов попадаются и кукушата, но самой кукушки уже давно не слыхать, она улетела далеко на юг наслаждаться вольной жизнью.
После ужина Ховард отправлялся ставить сети. Кьерсти любила ему помогать, ей нравилось плыть на лодке, к тому же она знала рыбные места.
Теперь Ховард ладил с девочкой. Раньше это не получалось. Когда они встречались, он бывал с ней ласков — такой уж у него характер. Но они могли не встречаться целыми днями. Девочка была робкой и пугливой, как звереныш: тоненькая и высокая, она тенью скрывалась вдали, и он едва успевал обернуться ей вслед. Иногда Ховард замечал, что она наблюдает за ним, когда ей казалось, что он на нее не смотрит, наблюдает не то выжидательно, не то с любопытством, кто ее знает, да он и не задумывался над этим. Бывало, посмотрит в темный угол, где нахохлившись сидит Кьерсти, и встречает взгляд огромных глаз, но она тут же отводит их, словно ее застали врасплох за чем-то запретным. Иногда, работая в конюшне или на сеновале, Ховард видел сквозь щели, как скользит мимо чья-то тень. Когда, напевая, он в сарае рубил дрова, то порою замечал, что чья-то тень пересекала полоску солнца, и слышал хруст веток — это Кьерсти неслышно подкралась к стенке сарая и, затаившись, переступает с ноги на ногу.
— Входи, я научу тебя этой песне, — говорил он. Но Кьерсти уже не было.
Так было в первые недели. Но с тех пор, как он навел чистоту в хлеву у старой Мари, все изменилось. Он встретил Кьерсти в закутке у старухи, и сразу же весь страх и робость девочки как ветром сдуло. Она говорила сама и расспрашивала его, смеялась и снова болтала. С тех пор так у них и повелось. Только, когда была поблизости мачеха, Кьерсти дичилась, как прежде.
Глаз у Рённев был зоркий, и она сразу подметила перемену. Хорошо, что Ховард с Кьерсти подружились, сказала она. С Кьерсти ведь ох как нелегко, кому как не мачехе это знать.
— Но тебе-то, мужчине, может, и проще с ней ладить, — усмехнулась она.
Ховард поставил все шесть сетей там, где показала ему Кьерсти. Потом сел на весла, и они отправились домой.
Солнце зашло, и озеро замерло, все краски поблекли, холмы и луга смутно отражались в воде, Кьерсти задумалась и иногда осторожно проводила пальцем борозду по воде. За пальцем по воде бежала рябь, тускло отсвечивая, как серый шелк.
От причала они поднялись по заросшей тропинке. Роса была такая обильная, что у них промокли ноги. Ласточек уже не было, над головой носились летучие мыши — пришел их черед ловить мух. Они беззвучно скользили в воздухе, словно ночные тени птиц.
Кьерсти немного отстала, она рвала цветы. Ховард знал, что она поставит их в воду, а утром отнесет старой Мари. К утру цветы поникнут — такие цветы вянут быстро, — но ведь подарок вое равно дорог.
На крыльце их поджидала Рённев. Он заметил, как она вздрогнула, когда он появился из-за сарая. Она поднялась и сделала несколько шагов навстречу — и Ховард почувствовал, как сладко и тяжело забилась кровь в жилке у него на шее.
Они постояли, глядя вокруг. Кьерсти проскользнула мимо них в дом. Вокруг было тихо. Поздний вечер, июль, лето.
Рённев глубоко вздохнула, потом повернулась к нему:
— Поздно, пора в дом.
Наследный клинок
В тот день, когда Рённев, Кьерсти и Ховард вернулись с сетера, Ховард поел наскоро. Ему не терпелось посмотреть на свой луг. Луг этот стал для него вроде ребенка. Других-то детей нету…
Но на лугу все было совсем не так, как он ожидал. По совести говоря, там ничего не изменилось, если и стало посуше, то лишь чуть-чуть. И вода не стекает в отвод. Вот где сухо.
Ховард снова и снова спрашивал себя, уж не зря ли он сделал канавы закрытыми? А может, кругляки так плотно уложены, что воде не просочиться? Нет, от этой мысли он отмахнулся, он же сам за всем проследил, канавы сделаны правильно.
Еще раз он обошел весь луг, проверил уклон — да нет, вода обязательно должна стекать.
Но вода не текла. А луг был все такой же заболоченный. Или почти такой же.
Неужели в нем столько воды?
Нет, видно, ему просто слишком не терпится. Обожди, уговаривал он себя. Не может ведь такой луг, на котором, поди, тысячу лет стояло болото, высохнуть за какие-то несколько дней. Не одна неделя пройдет, а может, и не один месяц, пока все изменится.
Постепенно он почти уговорил себя, что все в порядке. Надо дать воде время. Вот ближе к жатве посмотрим… Он заставил себя две недели не подходить к лугу — до сенокоса. А думать каждый день думал: нет ли где ошибки? Но нет, быть того не может.
Потом начался сенокос, и еще две недели у Ховарда дел было по горло.
Ближе к жатве… так он решил. Но у него не хватило терпения. В начале августа они управились с сенокосом. Закончили задолго до ужина. На кухне варили кашу на сливках, он спустился в погреб, принес пива и водки, но больше ждать не мог. Скорее на луг, посмотреть, что там.
Все то же болото. Почти то же. А сухо только в отводной канаве. Как и месяц назад.
Это не укладывалось у него в голове.
Когда он возвращался домой, он заметил, что двое хусманов, Мартин и Эдварт, как-то странно посматривают на него.
И за ужином они посматривали на него. Если он глядел на них, они быстро отводили глаза и лица у них становились серьезными и непроницаемыми. Но он успел подловить злорадство в их взглядах.
Понятно. Они побывали на лугу и знают, что он тоже видел луг. Они злорадствуют, что он столько труда положил впустую.