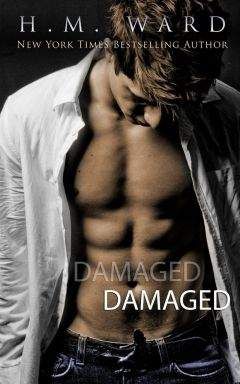Ариэль Бюто - Самурайша
Хисако ничем ему не угрожала. Она слишком благородна, чтобы опуститься до банального «она или я», ее печаль не похожа на слезливые страдания героинь любовных романов. Хисако терзается из-за поруганной чести, нарушенной клятвы, чего-то непоправимого, что она все-таки преодолевает, потому что ничего другого не остается. Разве что музыка. Сегодня вечером они попробуют — впервые за много месяцев.
Они уже одеты и стоят в гостиной, глядя друг другу в лицо.
— Ты готов? — спрашивает Хисако.
— Да.
— Сегодня наш последний концерт?
— Надеюсь, нет.
— Это не в нашей власти, Эрик.
Ему чудится упрек, но она улыбается, и эта улыбка тревожит его. Он больше не читает в ее душе как в открытой книге и не решается ни о чем спрашивать. Он осторожен, потому что не хочет разбудить в Хисако оскорбленную супругу, способную предъявить ему счет. Он чувствует, что получил отсрочку, но не надеется на чудо прощения. Неопределенность изматывает его, но и дарит надежду. Он представляет себе будущее, в котором обе его жизни сольются в одну, но надежда гаснет, как только перед глазами встает образ вытащенной из воды Хисако.
— О чем ты думаешь?
— О тебе, родная.
— И что ты думаешь?
Блестящие глаза Хисако дают ему мужество повторить все то, во что она отказывается верить.
— Я люблю тебя, Хисако. Я бы отдал жизнь, чтобы исправить причиненное тебе зло.
Он протягивает к ней руки, но она их не принимает, бросает последний взгляд в окно — на ярко освещенные палаццо и лилово-синюю венецианскую ночь.
— Долг чести, — шепчет она, выходя из номера.
Они больше не обманывают себя, и овация, которую устроила им публика в театре Малибран, ничего не меняет: дуэт Берней дал свой последний концерт. Даже Шуберт — такой нежный, такой близкий — не в силах помочь обреченным любовникам. Они играли как чужие, каждый сам за себя. Никто ничего не заметил, но это не умаляет их отчаяния.
В лабиринте улочек, напоминающих театральные декорации, к ним постепенно возвращается дар речи.
— Что с нами будет, Эрик? Концерты в Милане, Флоренции, Риме…
— Так не может продолжаться, и ты это понимаешь. Мы не имеем права погубить то, что было сделано. Господи, это я во всем виноват…
Он обнимает ее, сжимает до хруста в костях.
— Ты молчишь! Ни в чем меня не упрекаешь! Скажи хоть что-нибудь, Хисако!
— Я твоя жена, Эрик. Я поклялась быть рядом и хранить верность, пока смерть не разлучит нас.
— Я обещал то же, но слова не сдержал.
— Еще не поздно, Эрик. Для человека чести никогда не бывает слишком поздно.
Она крепко берет его за руку, торопясь вернуться в гостиницу: нельзя, чтобы обманчиво-счастливый окружающий пейзаж успел размягчить их сердца. Тайная нега Венеции больше не для них.
Она снимает туфли, задирает платье, чтобы снять чулки. Эрик отводит взгляд. Он не пожелает эту женщину, пока не поймет, кем она для него стала.
Хисако наливает себе виски, выпивает залпом и тут же наливает еще.
— Ты слишком много пьешь.
— Я знаю.
Ноги не держат Хисако, и она падает в кресло.
— Плеснешь мне еще?
— Нет. Я не стану пособником твоего саморазрушения.
Эрик не смотрит на Хисако, он стоит к ней спиной, горбясь от раскаяния.
— А что еще мне остается?
— Отчаяние — худшее из решений.
— Ладно, тогда предлагаю вот что. Ты сейчас пойдешь к себе, я останусь здесь, и каждый подумает, как нам из всего этого выйти. Давай поищем замену отчаянию. Первый, кто найдет выход, расскажет другому.
Эрик колеблется. А вдруг она выбросится из окна?
— Ты так и не научился скрывать свои мысли. Боишься, что я снова попытаюсь?
— Да. Боже, любимая… Поклянись, что никогда больше…
— Ты знаешь цену обещаниям, Эрик.
— Я знаю, что твои слова куда дороже моих! Пообещай мне, Хисако, пообещай, что больше не подвергнешь свою жизнь опасности.
— Только если сдержишь обещание, которое дал мне перед тем, как мы отправились в театр.
— О чем ты?
— Ты сказал, что отдал бы жизнь, чтобы искупить причиненное мне зло. Ну иди же, иди! В одиночестве лучше думается.
Эрик оставляет Хисако. Он немного успокоился, видя ее такой размякшей. В таком состоянии она вряд ли причинит себе вред. Он закрывает за собой дверь, садится на кровать. Он абсолютно спокоен. Наконец-то Хисако о чем-то его попросила! Один-единственный жест может вернуть смысл четырнадцати годам, которые были наполнены музыкой и любовью. Его жизнь как окончательный расчет. Его жизнь в обмен на то, чтобы Хисако сдержала обещание и не покушалась на свою.
Оплаченный долг чести как доказательство любви.
Он набирает номер телефона, молясь, чтобы трубку снял мальчик. Детский голос звучит удивленно, в нем слышится нетерпение.
— Я люблю тебя. Будь счастлив, малыш, — шепчет Эрик, не имея ни единого шанса быть услышанным.
Он вешает трубку, оплакивая собственную трусость.
Она нашла его повесившимся. Он скрутил простыню, зацепил ее за зажженную люстру, оставив открытым окно (еще один вариант решения!).
Он не оставил записки, но она поняла. Он показался ей огромным, ноги в черных носках не доставали полуметра до пола. Она улыбнулась, догадавшись, что он снял ботинки, чтобы не испачкать стул. Последнее проявление благовоспитанности.
Она подняла стул и одна, ценой невероятного усилия, вынула тело мужа из петли. До самого восхода она лежала рядом с мертвым мужем на ковре, говорила ему нежные слова, молилась по-японски.
Потом она влезла на тот же стул, надела на шею ту же петлю и прыгнула в пустоту, успев попросить у Эрика прощения за то, что не сдержала обещания.
Примечания
1
Какой урод (ит.).
2
Люблю тебя (ит.).
3
Американский пианист. — Здесь и далее примеч. перев.
4
Джулиус Кетчен — американский пианист и дирижер.
5
Морепродукты, обжаренные в сыре.
6
Ливанское блюдо из размельченных зерен с помидорами и луком, заправленное оливковым маслом и лимонным соком.
7
Привет! Все готово. Можем ехать (яп.).
8
Цикл фортепианных пьес Мориса Равеля (1908 г.).
9
Аргентинская пианистка.
10
Швейцарская пианистка.
11
«Танцы давидсбюндлеров». Шуман был одарен и в литературе. Писал романы, повести, статьи, пьесы. Героями его новелл были очень необычные персонажи. Он придумал для себя «Давидово братство», членами которого — давидсбюндлерами — назначил Моцарта, Паганини, Шопена и Клару Вик (его жену) и двух выдуманных персонажей, мечтательного Эвзебия и бурного Флорестана, представлявших собой как бы две половины его личности, которые спорили между собой. Иногда он использовал их имена как псевдонимы.