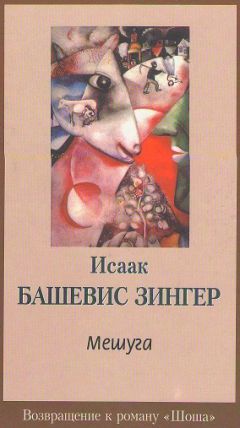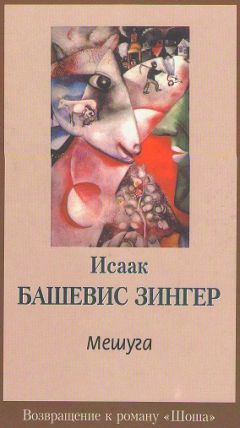Исаак Башевис Зингер - Мешуга
— Возьми только летний костюм и плащ.
Я сказал:
— Мириам, я нашел термометр в аптечке.
Мириам кивнула.
— Я поставлю его позже. Пусть Диди сейчас поспит, славный малыш.
Глава 10
Все было готово — чемодан Макса упакован, заказаны билеты на автобус из Лейк Джордж в Нью-Йорк, сделано все необходимое, чтобы быстро получить разрешение на выезд и последующее возвращение в Штаты. Мириам осталась с Диди, а мы с Максом приехали в Нью-Йорк и остановились в его квартире. Те же беженцы, что вломились к Приве и разворовали ее драгоценности, теперь звонили Максу, чтобы пожелать ему счастливого пути и скорого возвращения. Хаим Джоел Трейбитчер в телеграмме Максу объявил о своем намерении компенсировать потери жертв, пострадавших от надувательства Хэрри, и эта новость быстро распространилась среди них. Честность и благородство этого справедливого человека произвели должное впечатление.
За дни, проведенные в Нью-Йорке до отъезда Макса, мы с Цловой так подружились, что стали обращаться друг к другу на «ты». В Варшаве она управляла бельевой мастерской, принадлежавшей пожилой болезненной бездетной паре. Они доверили Цлове свое дело, и после их смерти она должна была его унаследовать. А еще Цлова рассказала мне свою историю. Она родилась в маленьком городке в Люблинском воеводстве и рано осиротела. Выучилась шить и вышивать. Потом работала у корсетного мастера и стала специалисткой по изготовлению нижнего белья для женщин, у которых была слишком большая или слишком маленькая грудь, и тех, что перенесли операции на груди. «Старики», как окрестила Цлова своих хозяев, нередко болели и ездили на заграничные курорты или на виллу, которая находилась в Отвоцке.[133] Цлова присматривала за их большой квартирой и вела дела в мастерской. Заказчицы приезжали к ней со всей Польши, и она удовлетворяла любые их требования. Во время войны Цлова попала в концлагерь, позже в лагере для перемещенных лиц в Германии она получила визу в Америку. Она подружилась с Привой еще в Варшаве. Прива увлеклась оккультизмом и посетила несколько сеансов с известным польским медиумом Клуски. Когда Прива выключила свет, и Цлова положила руки на столик, тот приподнялся над полом и дал правильные ответы на все вопросы. Цлова стала большим знатоком в использовании стола Оуджа. Она уверяла меня, что задолго до того, как пришла телеграмма от Хаима Джоела Трейбитчера, извещавшая, что он нашел для Макса нужного врача, она видела это во сне. Цлова утверждала также, будто видела во сне, что Макс будет жить с Мириам в доме у озера. Когда Цлова попросила меня показать ей ладонь правой руки, чтобы прочесть мое будущее, она сказала:
— В тебе горит большой огонь.
— От Бога или от дьявола? — спросил Макс.
— И то, и другое, — ответила Цлова.
Макс часто высмеивал Цлову, подшучивал над ее видениями и снами и говорил, что она приподнимает столик ногами и обманывает себя и других. Он сказал:
— Как же это все твои духи не смогли защитить тебя от нацистов?
Тем не менее было ясно, как они близки друг другу. Цлова всегда предупреждала Макса, что ему можно или нельзя есть. Когда он зажигал сигару, она буквально вытаскивала ее у него изо рта. Она упаковывала его белье, подштанники, лекарства, как опытная жена. Сама она выкуривала по три пачки сигарет в день, и я однажды случайно услышал, как Макс предупреждал ее:
— Тогда я приготовлю вам встречу.
— Какую встречу? — спросил Макс не без удивления.
А Цлова сказала:
— Я посажу вас в золотое кресло, а под ноги дам эту шлюху, Мириам Залкинд.
За день до отъезда Макса, когда Цлова пошла купить вещи, которые могли понадобиться ему в путешествии — пижаму, носки, резиновую клизмочку, маникюрные ножницы, пилюли от запора и другие полезные вещи, — Макс открыл мне свой секрет (о котором было несложно догадаться): он однажды переспал с Цловой. Он знал, что эта молодая женщина с белозубой цыганской улыбкой и прищуренными татарскими глазами обманывала своих работодателей в Варшаве и свою хозяйку в Нью-Йорке. Макс сказал:
— Я не мог удержаться. Я родился жадиной. Ты унаследовал от меня Мириам и можешь поиметь и Цлову. Ты принадлежишь к людям того же сорта. Я, друг мой, теперь привязан к куче объедков.
— Ты поправишься и наделаешь еще массу свинств, — сказал я.
— Твои бы слова Бог услышал.
Макс сказал буквально те же слова, которые я часто говорил своим женщинам:
— Разве это моя вина, что я могу одновременно любить больше, чем одну?
— Вся идея единобрачия это большая ложь, — сказал Макс. — Ее изобрели женщины и пуританские христиане. Этого никогда не существовало у евреев. Даже наш великий учитель Моисей возжелал негритянку, а когда его сестра Мириам упрекнула его, ее наказали чесоткой. Где это написано, что я должен быть более святым, чем Моисей или патриарх Иаков? Пока я в силах, я себя услаждаю. А поскольку я готовлюсь завершить свое существование, теперь настает твое время.
— Моя первая жена, — продолжал он, — (может быть, она в раю) была праведной еврейской дочерью — однако без проблеска воображения. Я пытался разбудить ее всеми средствами, какие у меня были. Я давал ей читать Мопассана, Поля де Кока, даже нашу польку Габриелу Запольскую. Но все ее мысли были только о платьях, безделушках и дорогих мехах. В ее жилах текло молочное пахтанье, а не кровь. Я даже пытался сводить ее в кабаре. Но все, хоть немного похожее на извивания, она называла одним словом — непристойности. Если мужчина импотент, то его тащат к раввину и заставляют дать жене развод. Но если женщина фригидна, холодна как лед, она вознаграждается за целомудренность. У моей жены была одна безусловная добродетель — она была мне абсолютно верна. Для Матильды, да покоится она в мире, все было делом престижа. Если светские дамы в Париже имеют любовников, у нее тоже должен быть любовник. Хаим Джоел, пусть он простит мне, что я так говорю, был слабаком не только физически, но и духовно. Его страстью всегда были и остаются деньги — и, слава Богу, он сделал более чем достаточно, чтобы все возместить беженцам. Если женщина рождена с горячей кровью, весь мир поднимается, чтобы осудить ее. Она не что иное, как потаскуха. Не только для женщин, но и для мужчин тоже — обабившихся. Ты прекрасно понимаешь, кого я имею в виду.
Я почувствовал, что бледнею.
— Мириам тебе рассказала все?
— Все.
— Тебе известно ее прошлое?
— Да.
— Как бы ты ее тогда назвал?
— Я принимал бы ее такой, какая она есть.
— Мог бы ты на ней жениться?
— Если бы я был в твоем возрасте, да.
— Она хочет детей. Откуда ты бы знал, что они твои?
— Я бы ничего не имел против, если бы они оказались твоими.
— Они могли бы оказаться детьми почтальона.
— Нет. — Макс засмеялся. — Какая польза от разговоров? Но есть одна вещь, которую я хочу, чтобы ты сделал, — не обманывай ее.
— Я ее не обманываю.
— Обманываешь. Она связывает с тобой свои надежды. Как бы невероятно это ни звучало, когда дело идет о настоящей любви, Мириам целомудренно чиста.
На следующий день рано утром мы с Цловой проводили Макса в аэропорт. На обратном пути в такси, когда Цлова прижала свое колено к моему, я сказал:
— Я о тебе все знаю.
— Я знаю, что ты знаешь, — ответила Цлова. — И я знаю все о тебе.
— Что ты имеешь в виду? — спросил я.
— Прежде всего, я знаю, что Макс не умеет держать слово. Он как пьяный: что на уме, то и на языке. Во-вторых, я вижу некоторые вещи во сне, а некоторые наяву. Когда Макс впервые привел тебя к Приве, я видела сияние вокруг твоей головы.
— Что за сияние? Что это значит?
— То, что ты будешь моим.
— Нет, Цлова. На этот раз твое видение неправильное, — сказал я дрогнувшим голосом.
Цлова положила руку на мое колено.
— Не сегодня. Сегодня у меня менструация. Когда ты вернешься.
Я сказал Мириам, что не хочу иметь детей ни от нее, ни от кого-либо еще. Газеты и журналы были полны сообщений о демографическом взрыве. Мальтус[134] был не столь уж не прав, как это утверждали либералы, — было недостаточно пищи для миллионов людей. Катастрофы, вызванные Гитлером и Сталиным, продемонстрировали, что мечты людей о вечном непрерывном мире и объединенном человечестве были нереальными. Возникли десятки новых наций, и везде были раздоры и войны. Даже после гитлеровского Холокоста всемирная ненависть к евреям не ослабла, и Израиль был окружен врагами. Какой смысл приносить ребенка в этот мир? Зачем увеличивать сумму человеческих страданий? Мириам, отчасти соглашаясь со мной, тем не менее возражала:
— Если умножается только зло, то какая надежда остается у человечества?
— Никакой надежды, совершенно никакой.
— Тогда каким образом обезьяна поднялась до человека? Как появился Спиноза или Толстой, Достоевский, Ганди, Эйнштейн?