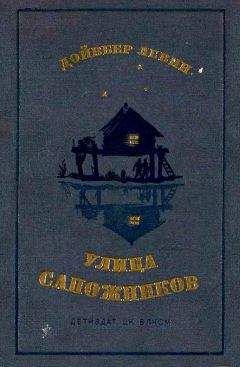Олег Ермаков - Холст
7. Паскаль: “Меня ужасает вечное безмолвие этих пространств”.
8. Г. Мор: “Пространство есть некоторое довольно странное и неопределенное представление…”
9. Тем не менее в семнадцатом веке выковали ясное определение пространства: бесконечно протяженный и однородный универсум, не зависящий от движущихся в нем небесных тел. Таково же и время.
10. Эйнштейн доказал, что все не столь ясно и просто. Пространство (и время) определяется в космических областях размещением и движением масс. Это положение в школе иллюстрируют следующим образом: на кусок резины (пространство) опускают железный шарик (космическое тело) – резина изгибается под его тяжестью. В местах большой концентрации масс геометрия неевклидова, ритм всех процессов изменен по сравнению с ритмом процессов вдали от сгущений материи. Астрономы подтвердили, что луч звезды, проходя мимо космического объекта, ломается. Но в целом пространство все-таки однородно. Конечно или бесконечно – вопрос открыт.
Незыблемость пространства была поколеблена, и оно буквально закачалось, опрокинулось на полотнах живописцев (Дега, Пикассо, Тулуз-Лотрек, Марк Шагал). Началось плавание Пьяного корабля. Все стали его матросами и пассажирами. И Гоген недаром сбежал на Таити, где со спокойной совестью мог писать мир устойчивым, словно его только что сотворили. Какие широкие ступни у его таитянских Ев. И сколь величественно они неподвижны, будто их писал не парижанин, а безымянный бритоголовый художник эпохи Среднего царства где-нибудь в Фаюмском оазисе. Перспектива в его работах была похерена. Никакой дали, глубины. Какая еще даль, если буквально: дальше некуда, странник достиг предела. И здесь его обступили сны. Они возникали мгновенно из солнечного воздуха, пения прибоя, блеска листвы, голосов островитян. Он как будто попал в родилище архетипов. Простые действия: сбор плодов, купание, ловля рыбы тут же превращались в нечто сакральное, ослепляюще прекрасное, извечное. Жизнь приобретала космическое измерение, как бы освещаемая в упор вечно полуденным Солнцем Платона.
Гоген лежал в его лучах, заглушая боль в ноге, покрытой сифилисными язвами, морфием. Сифилис он привез из Парижа. Когда боли стали нестерпимы и к тому же с прибывшим пароходом ему не прислали денег, он вооружился коробочкой с мышьяком, поднялся в горы и проглотил яд. Афины снова приговаривали к смерти смутьяна. Но он счастливо проблевался и наутро поплелся вниз, в свою хижину.
Интересно, что все жестокие реалии, добросовестно упоминаемые авторами, описывающими жизнь Гогена на островах, кажутся ерундой, чуть ли не выдумкой. От них отмахиваешься, как от писка комаров. Все это подробности быта, а не судьбы.
Но отсутствие перспективы могло свидетельствовать и о другом, не о достигнутом пределе мира и переживаемой полноте, когда пространственная даль и глубина перетекает в духовную даль и глубину и время останавливается, а просто о страхе перед видимым миром. Идею натуралистического и ненатуралистического стилей в искусстве выдвинул немецкий эстетик Вильгельм Воррингер. Художник, испытывающий доверие к миру, стремится изображать его объективно, это грек классической эпохи, итальянец Возрождения и вообще западноевропейский художник – до конца девятнадцатого века. Страх, дисгармония между художником и универсумом порождает ненатуралистический стиль: господствуют линейно-геометрические формы, стабильные, упорядоченные. Художник пишет мир таким, каким он хочет его видеть. Это первобытный художник, египетский скульптор, романский скульптор, византийский живописец. К ненатурализму относятся и основные стили двадцатого века.
Так что же выразил Гоген: отчаяние или благодать?
Вечером он отправился на службу и по дороге в кинотеатр нагнал Вика, тот шел один, не спеша, сунув руки в карманы короткой курточки, глядя себе под ноги. Охлопков приобнял его. Тот вздрогнул, дернулся, быстро обернулся.
– Тшш! не бей сразу, это я! – весело сказал Охлопков и осекся.
Вик разжал кулаки.
– Постой, что это у тебя?
– Ничего, – проговорил Вик, отворачиваясь.
– А по-моему, тебя кто-то лягнул?
Вик нехотя кивнул и с вызовом ответил:
– Ну, лягнул.
– Кто? за что?
– Если бы знать.
Они остановились у широкого крыльца “Партизанского”.
– Подожди, – сказал Охлопков, – сейчас я отпущу билетершу.
– Ладно, – со вздохом согласился Вик, – только дай сигарету.
Когда билетерша ушла, он поднялся на крыльцо, вошел, Охлопков закрыл за ним дверь.
Из зала сквозь перекошенную дверь проваливались смачно округлые, шероховатые звуки. Вик хмуро поглядывал на дверь и рассказывал, вертя в пальцах спичку. Голоса из зала мешали:
– Что они там делают?
– Это малыш Риты… Сегодня крестины.
– Дайте мне посмотреть на него!.. Дайте взглянуть!.. Красавец! Святой! Красавец! Будь счастлив, будь счастлив!
– Ну, в общем, шли втроем, о чем-то спорили. Ну, как обычно. Обсуждали положение. С нами был Ермак, одно время пробовал играть у нас на дудке, но это был полный… абзац.
– Уезжаете? Это правда, что вы выходите замуж?
– Всего наилучшего! всего наилучшего! Ждем конфет!.. Счастья!
– Спасибо! До свидания! Спасибо!
– …и так мы спорили, отдадут нам инструменты или нет. Потом еще о чем-то. Моррисон, в самом ли деле он или просто ушел в глухое подполье. Ну, все в таком духе. И тут произошла авария. Перед нами возник мен в каракулевой папахе. Голова у него мерзла?.. Плащ без погон, но с эмблемами на отворотах.
– Какими?
– Щит и мечи.
– Гм.
– Меня как будто робот рычагом захватил… как будто куртку засосало каким-то транспортером. И она на спине так натянулась, что вот-вот лопнет. Я, конечно, высказался по этому поводу… нет! прикинь? Ты идешь и налетаешь на бетонный столб. Тут же второй рычаг сработал, и меня отбросило в сторону.
– О!..
– Смотри… Уже стемнело. Этот вечер тянулся так долго… закат…
– Деньги…
– Спрячь их!
– Благодарю, синьор.
– Может быть, лучше, чтобы они были у тебя… Мое приданое… Триста пятьдесят за дом.
– А этот робот захватил рычагами ребят, Алика и Ермака. Алик что-то заблеял, и механизм тут же дернул его так, что у того зубы клац-клац и пляжная кепочка – он в ней, как фрайер, ходил с тех пор, как мамаша патлы посекла, – слетела на нос. Ермак заговорил. И сразу мордой стук об Алика, как кукла тряпичная. Что за мраки, а?
– Звук гита-а-ры и не-э-много луны-ы…
– Что еще нужно для серенады?.. Поцелуй меня.
– Пойдем сюда… здесь короче.
– Но там темно. Ничего не видно.
– Я вижу. Дай мне руку.
– И тут наконец этот бетонный дядя говорит из папахи: “Я научу вас ходить”. Полная шиза! А мы что, не умеем? И озирается на дорогу. Машина какая-то проехала, не остановилась. У Алика очки сейчас свалятся. Он попытался поправить их. Дядя дерг! И нет проблем, очки на асфальте. “Я научу вас уважать”. Ермак: “А мы разве не-э-э-э, почему вы решили…” Он уже вник: вляпался с нами в какую-то историю, может быть, связанную с нашей музыкой. Дядя сопит, смотрит прямо на него.
– Тебе грустно?
– Нет… Почему?
– Ты молчишь, не поешь больше…
– Посмотри, как блики луны играют в листве деревьев…
– Как красиво! Жаль, что так темно. А то бы я вырезала на дереве наши имена.
– Ну и что дальше? – спрашивает Охлопков.
Он вынужден прислушиваться к звукам фильма, чтобы вовремя открыть двери, включить свет.
– Что это за пурга? – недовольно спрашивает Вик, кивая в сторону зала. – Дай сигарету.
– Подожди, пусть все закончится.
– Как красиво! О да… все же и в этом мире есть справедливость. Человек страдает, проходит через такое… Но потом наступает для всех момент счастья. Ты стал моим ангелом. Ты замерз? Дорогой. Как глубоко! Посмотри. Хорошо было бы на лодке покататься.
– Ты умеешь плавать?
– Нет… Один раз, если бы меня не спасли, я бы… Меня столкнули… Что случилось?
– Да, – говорит Охлопков, – ну и что?
– Ничего. Алик с Ермаком попросили у него извинения. За то, что он поставил мне бланш. И мотал их как марионеток. Тут проехала еще одна машина. Он посмотрел, разжал крючья и пошел, сопя, покачивая плечами, словно сошел с палубы или только что спрыгнул с коня, дядя в папахе, будто у горца, закутанный в плащ со щитом и мечами. Исчез, как призрак.
– Замолчи! Замолчи! Что ты говоришь? Не кричи, сумасшедшая! Сумасшедшая! Замолчи!
– Сбрось меня вниз! Сбрось меня вниз! Хватит жить! Сбрось меня вниз! Убей меня! Убей меня!
– Ни фига себе обломы… И ты каждый вечер эту истерику слушаешь?
– Представь, каково киномеханику.
Из зала рыдания, вой. Потом все стихает.
– Удовлетворил ее?
– Нет, просто взял приданое и смылся… Сейчас приду.
Охлопков уходит в зал, в темноту, где в глубине сияет огромный прямоугольник экрана. Лес. Луна. Среди деревьев женская фигурка. Она выбирается, пошатываясь, из логова теней и бликов – на шоссе. Музыка. Обманутая, едва избегнувшая гибели женщина начинает петь и пританцовывать.