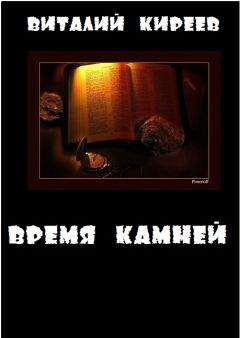Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 9, 2003
Это и было, что ли, настоящим именем чумы — Скука? Но мир ведь прожил века, тысячи и тысячи лет, и миллионам, миллиардам людей их жизнь вовсе не казалась скучной — почему же нынешним вдруг стало скучно? Что им такое показали, какую такую игру, в сравнении с которой сделалась убогой обычная счастливая жизнь? Чем их таким поманили, что рядом с этой приманкой сделался пресным даже Бетховен, потребовалось истошно вопить и бесноваться в прожекторных лучах, словно спасаясь от зенитного расстрела? Бессмертие им, что ли, посулили — так нет же, у них высший шик — огрести три чемодана долларов и «передознуться» насмерть. Или «вскрыться» самому, не дожидаясь «передозняка». Культ смерти? Но его отправлять слишком уж легко — возьми да и повесься, не тяни за собой других. Тех, кому за это не платят, тех, вместе с кем расплачиваются их близкие. Вот, вот что было истинной чумой: люди вообразили, что они рождены для чего-то более пышного, чем реальность, какой она только и может быть, что кто-то им что-то задолжал, и если они станут уродовать все в себе и вокруг себя, то этим как-то отплатят обидчику — так распущенный ребенок колотится об пол, чтобы досадить перепуганной бабушке. Успокойтесь, никто ниоткуда на вас не смотрит и не ужасается, до чего вас довел, никакой верховной бабушки у вас нет. Зато мать имеется у каждого… Да и отец, между прочим.
Юность всегда влечет к чему-то необыкновенному, вздыхала Аня, когда Витя сетовал, что Юрку тянет к каким-то уродам — тот отсидел за хулиганство, невольник чести с рубцом поперек губы, на зоне глотал шурупы, чтобы не работать, теперь играет желваками даже в чужой передней — в собственном доме жуть берет, когда пробираешься мимо; другой — шут гороховый, издевательски-преувеличенно рассыпается мелким горохом; третий — самый большой знаток рока, владелец самой полной коллекции «пластов», — тут и Юрка признает, что отмороженный: большой, угловато-мосластый, все время полуотворачивается, кося диким конским глазом, — вот он таки и впрямь понюхал психушки, оказавшейся, к Витиному изумлению, невероятно престижным учреждением. Может, и правда, иной раз чуть ли не верил Витя, миром незаметно правят сумасшедшие — придумывают какую-то игру для своих, а в нее втягиваются и здоровые… И заигрываются так, что нормальная жизнь начинает казаться недостаточно праздничной, недостаточно бурной, недостаточно черт их знает какой, но — недостаточной. Человечество переиграло лишнего, поверило в собственные выдумки и заболело презрением к норме, к реальности — презрением баловня к кормилице: Витя сам додумался, что все необыкновенное живет за счет обыкновенного.
Тянет, видите ли, к необыкновенному… — если бы не Юрка, Витя бы и не догадывался, какой паноптикум можно собрать из его подъезда… Но Вите ли не знать, к чему тянет «Юность» — к подвигу. Трудовому, а если понадобится, то и к боевому. «Ты же когда-то мечтал о подвиге…» — недавно горько пеняла Юрке Аня, и тот проникновеннейше заверил: «Я и был уверен, что совершаю подвиг. Иду на риск, чтобы приобщиться». — «К чему приобщиться?» — «Не знаю. Может быть, к образу жизни. К презрению к заурядной жизни заурядных буржуа. Куда входят, конечно, и рабочекрестьяне. И даже прежде всего». — «Но тогда и мы с твоим отцом входим». — «В вас еще сохранилась — извините, конечно, за откровенность — какая-то наивность юности. (Или „Юности“?) А в остальном — м-да, увы… Я бы не хотел прожить вашу жизнь».
Дважды сломанный мягкий нос делал его еще более похожим на симпатягу японца, готового в любой миг залучиться беззвучным смехом.
«Хорошо, ты презираешь наш образ жизни, но…» — «Почему презираю — просто не хочу». — «…Но презирают всегда во имя чего-то более высокого. Где твое „во имя“, как говорил Блок». — «Пускай грядущего не видя, дням настоящим молвить нет, — с долей шутовства продекламировал Юрка. — Это тоже Блок». — «Спасибо, я знаю. Ты не хочешь говорить серьезно, но на самом деле ты просто подражаешь чужому образу жизни, а сам не знаешь, что образ жизни всегда выбирают так, чтобы лучше делать какое-то дело. — С тех пор как Аня вела лекционные курсы, она выражалась еще более ясно и четко. — А вы форму хотите взять без содержания, понимаешь?» — «Понимаю. А помните, какие были военные формы двести лет назад — с плюмажами, шелковыми шнурами, разноцветные… Абсолютно бесполезные, только целиться помогали. Я, может, и хотел бы вернуться в те времена, когда форма и была содержанием». — «Такого никогда не было — чтобы ставили прихоть выше дела». — «Вот-вот, этого бы мне и хотелось. Чтобы прихоть ставили выше дела. Правда, у нас умная мама? Мне уже с детства казалось, что жизнь такая драгоценная штука, что ее жалко тратить на обыкновенную жизнь».
Может, в этом и был источник заразы — в переоценивании человеческой жизни.
— Уже из одного того, что вас так много, — подытожила Аня, — видно, что вы избрали легкое, а не трудное.
Для Юрки, кстати, в буржуа попадают не только обыкновенные инженеры, но и обыкновенные министры.
Когда-то Витя уважал людей со странностями: знают, стало быть, что-то, с высоты чего нашего им кажется мало, — теперь все непонятное вызывало у него отчетливую враждебность: кто покушается на привычное, покушается на самые основы жизни. Вите теперь не нравились даже новые слова — жили же как-то без них. Хотя вроде бы не так еще давно гордился, что Юрка уже в восьмом классе с пониманием произносил слово «экзистенциализм». Существование предшествует сущности — эта скороговорка казалась Вите почти бессмыслицей, но Юрка явно умел извлекать из нее какие-то следствия. Опасные следствия. И сам, и его учителя из «Иностранной литературы» — вот она, иностранная литература, мало нам было «Юности», стучалось в Витино сердце. Но — он вынужден был признать, что экзистенциалисты кое-что понимали. Вернее, умели. Уже в перестройку Юрка притащил от Лешки Быстрова «Иностранку» с романом старого Витиного знакомца Сартра — герой там ужасно мучился от Тошноты с большой буквы. Разумеется, Витя понимал, что речь идет не о заурядной желудочной тошноте, и страшно сочувствовал герою — пока тот не принялся с непонятной ненавистью описывать в музее портреты предпринимателей, которые превратили город в лучший морской порт, увеличили набережные и тому подобное, — хотя они были виновны только в самодовольстве, в уверенности в своем праве жить так, как они живут. Столь неадекватная ненависть могла быть продиктована и завистью — это подозрение постепенно разрослось до почти уверенности, что к чуме приложило руку и завистливое желание тех, кого тошнит, испортить аппетит тем, кто ни малейшей тошноты не испытывает. Какой-то установился в мире невиданный порядок — стало модно пользоваться его плодами и презирать тех, кто его поддерживает, — причем те, кто поддерживает, готовы первыми аплодировать плюющим: изучать их плевки, увенчивать их нобелевскими премиями…
Абсурд… Само слово нелепое — бсрд… Главное, что по-настоящему абсурдно, понял Витя, — это думать, будто у людей, считающих жизнь абсурдом, можно чему-то научиться.
(Окончание следует.)
Татьяна Милова
Не доверяйся штилю
Милова Татьяна Владимировна родилась в Мытищах (Московская обл.). Закончила факультеты журналистики и философии МГУ, работала редактором, истопником, сторожем. Автор книги стихов «Начальнику хора» (М., 1998). Живет в Москве.
* * *Слепая девочка, душа моя, пойдем.
Закат приблизился, и облачко алеет,
И все живущее идет своим путем.
Подъем, душа моя, нас ждут и вожделеют;
Тут справа пруд, и слева сад, и всюду свет,
И чаши, полные вина и винограда,
И нам достанется по вере или сверх.
Ну вот и ладно, и расслабилась, и рада,
И упиваешься муз`ыкой жестяной,
И с козлоногими проходишь хороводом —
Так мы гадали бы по звукам за стеной,
Какие гости там, какое торжество там.
Когда, душа моя, уладишь здесь дела
И влажной бабочкой покинешь этот кокон —
Что ты почувствуешь, увидев, где была?
Что ты — увидишь?.. Или вид, как ни убог он,
Вдруг встрепенется — жалкий, радужный, живой —
Урок, закончившийся вечной переменой, —
Все совпадет, все обернется лицевой?..
…О, взгляд единственный, о, взгляд недоуменный.
…Почему так узко хожу в широком строю, —
Честно хожу, хоть иной раз могла бы и слечь, —
Только тесно хожу, боком, зигзагами; окончательно отстаю;
Столько раз пересекала собственный след! —
Сколько воздух трещал и ломался; или искрил контакт;
Или взглядом натягивали проволоку в два ряда:
Вроде пахнет озоном, кожу покалывает… как бы не так,
Уж кого однажды пробило, тот более никогда —
Никогда, никому, о Господи, не могу объяснить,
Почему прижимаю локти и дергаюсь на пустом, —
И как повсюду дрожит Твоя вольфрамова нить,
Как порой ее замыкает над ближним кустом.
Как-то щедро мы разбредались, расплескивались по городам,
Статусам, даже занятиям, — так ничего и не сделали плечом к плечу;
Разве что сталкивались нос к носу («…Нет же, совсем не изменилась,
клянусь!..»),
Называли пароли юности: Копакабана, Яма, Сайгон;
Начинали отсчет утопленников (тоже масонский знак)
В разных водоемах: кто в Америчке, кто в Крыму —
Через Канаду транзитом; четверых уже нет
(«Двое с международного, рыженькая с литкритики, кто еще?..»);
Трое вышли в главреды (…и восемнадцать совсем спилось, —
Я могла бы добавить)… вот только тут,
Как бы всем помахав, оставались как бы вдвоем:
«Срочно вызвали в командировку, всего-то пара недель, —
Говорил Сергей, переминаясь, — не смог позвонить,
Вот тогда у нас начало расклеиваться…» — «Да нет, —
Возражала Марина, — намного раньше; уже забыл,
Как меня бросил, в Тарту?.. — поеживаясь, — …я едва добралась?..»
— «Просто много выпила». — «Да уж, на слайдах как помидор…»
— «У тебя еще жив проектор?.. А пригласи!..» — «А легко —
Скажем, послезавтра; запиши мобильный, — дернув плечом, —
Восемь — девятьсот три —…»
…Тут наконец встревала и я:
— Вы увидитесь, Марина, спустя четыре года и восемь дней,
На бегу, на станции «Академическая»; он уже будет лысоват,
Ты — в цейтноте, спешить в поликлинику с дочкой; будет просто
ни до чего
(Да и не для чего — как уже станет ясно…); так что «привет!» —
«привет!..».
…А с тобой, Сережа, мы встретимся через семнадцать лет, два месяца
и три дня,
После работы, — лето, август, пыль, жара, духота,
Воздух мутен, рубашку хоть выжимай, но закат —
Необыкновенный; ты знаешь, ты следил несколько раз,
Как уже из-под занавеса реденьких облаков
Прорывается залп лучей; в каждом битом и небитом стекле
Разражается солнце; пойманный тысячами зеркал,
В самом фокусе, — я повторяю: август, конец рабочего дня,
Через неделю в отпуск, оглушительный птичий гвалт,
Вспышка солнца на бампере — ты понял, Сережа?.. —
это — пароль.
Живу в рубле. Под сводами рубля