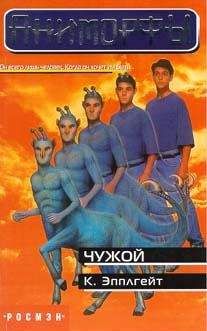М. Моррис - Современная вест-индская новелла
На рассвете мы поставили гроб на машину, сын сел за руль, я — рядом с ним. Мы надеялись, что на кладбище будет мало людей.
Боль в груди не дает мне разогнуться, и я едва понимаю слова капитана. Он говорит, что оставит меня здесь подыхать с голоду, повесит перед моим домом или изрешетит пулями, если я не скажу, кому из тех, кого схватила полиция, я передал оружие и что они собирались с ним делать. Он уверяет, что мне не придется никого продавать, я должен только опознать человека среди тех, кто уже схвачен и кого так или иначе ждет смерть; он говорит, что никто ничего не узнает и что я не должен вести себя, как паршивый подонок, и дать себя прикончить, что у меня еще есть возможность спасти свою жизнь и что ему совершенно не интересно мучить меня…
Меня страшит голод, жажда и сон. Я едва могу шевелить распухшими губами, во рту пересохло, горло кровоточит, и в страхе перед болью я стараюсь не глотать.
Я прошу капитана отвести меня в уборную, а он отвечает, что я могу помочиться в штаны… и тотчас же я чувствую, как теплая жидкость течет по колену, протекает в носок, в ботинок…
— Скажите, кто забрал оружие? — Я уже потерял счет его вопросам. Я их почти не слышу, только догадываюсь о них по интонации.
— Капитан, пожалуйста, я не…
— Мерзавец, кто забрал оружие? — Он толкает меня на койку и тычет лицом вниз. Затем сгребает в кулак мою рубашку и, подняв меня, сильно трясет. А потом неожиданно отпускает, и я падаю, стукнувшись так, что у меня подгибаются колени.
Один из полицейских бьет меня ногой в грудь, а, когда я переворачиваюсь, другой колотит по спине.
— Я тебя выпрямлю!..
Я пытаюсь приподняться, но капитан бьет меня по лицу тыльной стороной ладони. Из носа хлынула липкая кровь, я ощущаю ее солоноватый вкус.
— Капитан, я не… — Я ползу к нему на четвереньках —…Я не… — Перед моим носом черные блестящие ботинки —…Я не… — Капитан бьет меня коленом прямо в челюсть —…Я не… — Я всхлипываю, обняв ботинки капитана, которые, кажется, выросли до потолка.
В окошко влетает бумажный лист, вырванный из тетради. Он скользит вниз вдоль прутьев решетки, а затем медленно опускается недалеко от меня. Я смотрю на него, скосив глаза, — грудь и распухшее лицо болят так, что я не могу пошевелиться. Медленно протягиваю руку, ощупываю пальцами пол, дотягиваюсь до листка и потихоньку подтаскиваю его к себе. На одной стороне сложение: 8 + 3, 5 + 2, 6 + 4, 9 + 1… Плюсы выведены жирно… Наверху крупными буквами написано «Арифметика».
Другая сторона листка заляпана грязью, и уголок, на котором, наверное, было имя владельца, оторван. Хотел бы я знать, откуда этот листок — из новой тетради или старой и долго ли он путешествовал, прежде чем попасть ко мне. А может, его выбросили из окна соседнего дома? И вдруг я понимаю, что все это не имеет никакого значения. Складываю листок и сжимаю его изувеченными пальцами.
Когда открывается дверь и капитан вталкивает в камеру одного из друзей моего сына, я притворяюсь спящим. Парнишка валится на пол. Он смотрит на меня, у него рассечен и кровоточит лоб. Капитан спрашивает, не один ли это из тех, но я, не поворачивая головы, отвечаю, что нет. Полицейский хватает меня за ногу и сбрасывает на пол, а парня выволакивают из камеры. Капитан стоит надо мной:
— Что вы собирались делать с оружием?
Я понимаю, что мальчишку притащили не ради меня, а для того, чтобы произвести на него впечатление. Я впервые смотрю прямо в глаза капитану, я смотрю на его заячью губу, на его коротко остриженные волосы, в его блошиные глазки. Капитан, по-видимому, удивлен, что я так смотрю на него, и в ярости топает ногой.
— Чтоб тебя!
Ко мне подходит полицейский и бьет кулаком по бедру.
— Зачем вам оружие?
Вопрос звучит так, словно капитан и сам уже знает зачем, мне становится весело, и я улыбаюсь. Полицейский шлепает меня по затылку, будто нехотя, и я начинаю громко смеяться.
— На кой черт оно вам? — орет капитан, и я не могу отказать себе в удовольствии ответить ему:
— Оружие было для вас, капитан… — Полицейский бьет меня по шее, я переворачиваюсь на полу и кричу: — Может быть, даже в эту ночь!.. В эту ночь!..
Ботинок полицейского опускается мне на лицо, и, чувствуя, как рот наполняется кровью и обломками зубов, я задыхаюсь от кашля. Капитан останавливает полицейского.
Он медленно, словно нехотя, подходит ко мне. И я, не ожидая больше вопросов, говорю, что я отец того паренька, которого он убил недавно. Мне странно, но я говорю это без всякой ненависти. Капитан силится вспомнить, но, устало махнув рукой, уходит, так и не поняв, о ком я говорю.
Я сплю, и полуденный свет бьет мне в полузакрытые глаза… Луч света скользит среди гробов: больших, маленьких, обитых бархатом, деревянных, серых, черных, белых, с распятием из бронзы, железа, жести; гробов для взрослых, детей, богатых, бедных. Я медленно покачиваюсь в качалке, отталкиваясь кончиками ног, которые еле достают до пола. До моего слуха доносится поющий голос радиодиктора, объявляющего лотерейные выигрыши: 500 песо — самый большой, 100 песо — средний. Хлопочет жена, шалят ребятишки, а старший сын скребет бритвой свой почти безволосый подбородок.
Сквозь решетку ресниц вижу какую-то неясную, огромную, красноватую массу, которая останавливается в двери, заслонив свет. Человек спрашивает, могу ли я обслужить его. Мы выбираем гроб, и мой посетитель водит рукой по внутренним стенкам, словно проверяет новые туфли. Гвоздей нет, говорит он, но он предпочел бы другой, с более мягкой обивкой. Тогда я показываю ему серый элегантный гроб и зову старшего сына, чтобы снять гроб с верхней полки стеллажа с помощью человека, который спрашивает меня, где я живу, на что я отвечаю, что я живу тут, в комнатах в глубине дома. На мой вопрос, кто покойник, он отвечает, что это его жена. Я выражаю свое соболезнование. Мы расставляем козлы, зажигаем электрические свечи, и моя старуха смахивает пыль с распятого окровавленного Христа с лицом, перекошенным от боли. Человек и сын выносят гроб и ставят его на машину. Затем сын садится за руль, а посетитель рядом. Он наблюдает, с каким трудом я устраиваюсь на сиденье, и говорит, что хотел бы заказать саван и покрыть покойницу всю, с головы до ног, белыми цветами, так как она была святая женщина и они прожили вместе тридцать лет. Я ему отвечаю, что сам все это сделаю. Машина трогается с места, и легкий ветерок слабо раскачивает под самой крышей вывеску «Ла популар. Похоронное бюро». Я его хозяин…
Я ожидал целый день, лежа на спине без движения, отмеряя время по кругам вокруг лампочки, прилепившейся к потолку. Наконец послышались шаги полицейского, приближающегося к моей камере, я поднялся до того, как открылась дверь. Мы взбирались по винтовой лестнице молча, и я прислушивался к стуку моих ботинок о железные ступеньки. Вдруг мне показалось, что тысячи глаз смотрят на меня из камер, и я повернулся, надеясь разглядеть что-нибудь в темноте, но увидел позади только полицейского…
Впереди, рядом с шофером, — капитан. Я — сзади, между двух полицейских. Какое-то радостное чувство охватывает меня, когда мы едем по улицам, и я, словно ребенок, ослепленный мириадами огней, любуюсь городом.
Машина проезжает мимо бойни, поворачивает на Марти, и вдруг я понимаю, что мы едем по дороге, ведущей к нефтеперегонному заводу. Я спрашиваю капитана, могу ли я просить его об одном одолжении. Он отвечает утвердительно. Я прошу, чтобы он повез меня на Лома-Колорада. Он спрашивает почему, и я объясняю, что хочу умереть там, под большим фламбойяном, который сейчас, наверное, уже цветет вовсю. Капитан пожимает плечами. Машина поворачивает на Аламеду, и я вновь откидываюсь на сиденье, с наслаждением вдыхая ночной воздух города, объятого огнями.
Б. Кальехас (Куба)
ЕГО ПЕРВАЯ БОМБА
Перевод с испанского Ю. Погосова
Был субботний полдень, и все женщины, доступные и недоступные, вышли на улицы скупать всевозможные тряпки и безделушки. Солнечные лучи ласкали тротуары, обнимали девичьи ноги, коварно обнажая их красоту под тонкими тканями. В этот день все девушки Гаваны нагрузились пакетами и очень спешили. Их лица выражали безразличие ко всему окружающему их миру, но взгляд черных и горящих глаз, скользивший по лицам и витринам магазинов, говорил, что безразличие это напускное. В этот день у всех девушек Гаваны были черные глаза.
Прижав руку к рубашке и ощутив на животе холодок металла, я сказал Марко-Аурелио:
— Подожди-ка меня здесь. Пойду посмотрю, что там случилось.
— Нам хана! — воскликнул он, испуганно глядя на чернеющий вход в здание. — Наверняка там нас подстерегают и схватят.