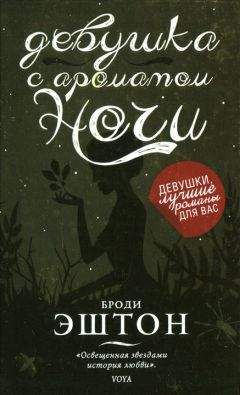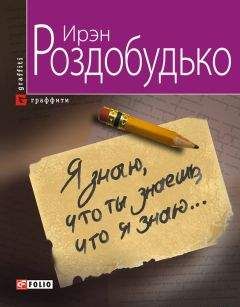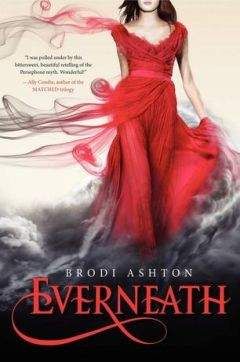Бруно Шульц - Коричные лавки. Санатория под клепсидрой
Сегодня я опять погрузился в альбом Рудольфа. Что за удивительные штудии! Текст этот полон ссылок, аллюзий, намеков и многозначительного перемигивания. Однако все линии сходятся к Бианке. Что за счастливейшие догадки! От узла к узлу, как по запальному шнуру, все более завораживаясь, бежит мое подозрение, подожженное сияющей надеждой. Ах, как мне тяжко, как стеснено сердце тайнами, которые предчувствую.
XVIПо вечерам в городском парке каждодневно теперь играет музыка и по аллеям движется весенний променад. Гуляющие кружат и возвращаются, минуются и встречаются в симметричных, непрестанно повторяемых арабесках. Молодые люди в новых весенних шляпах небрежно держат в руке перчатки. Сквозь деревья и живые изгороди светятся в соседних аллеях платья девушек. Ходят девушки парами, покачивая бедрами, взбитые пеной воланов и оторочек, неся, как лебеди, эти розовые и белые взбитости — колокола, полные цветущим муслином, и, случается, усаживаются ими на скамейки, словно бы утомленные своим пустым парадом, усаживаются всею огромной розой газа и батиста, и она лопается, шевеля лепестками. И тогда открываются ноги, заложенные одна на другую и перекрещенные — сплетенные в белую форму, исполненную неотразимой выразительности, а молодые фланеры, проходя мимо, смолкают и бледнеют, потрясенные верностью аргумента, окончательно убежденные и побежденные.
Близится вечер, и цвета мира делаются прекрасней. Все краски встают на котурны, становятся праздничны, пылки и печальны. Парк быстро наполняется розовым лаком, какой употребляют в живописи, сияющим лаком, от которого предметы сразу делаются иллюминованными и очень цветными. Но и в красках этих возникла какая-то слишком глубокая лазурь, какая-то слишком яркая и оттого сомнительная красота. Еще миг — и чащоба парка, едва подернутая молодой зеленью, прутяной еще и голой, вся насквозь озарится розовым часом сумерек, подбитым бальзамом прохлады и пропитанным невыразимой печалью вещей, вечно и смертельно прекрасных.
Тут весь парк сразу становится, как огромный молчащий оркестр, торжественный и сосредоточенный, ожидающий под вознесенной палочкой дирижера, когда музыка дозреет и вздуется половодьем, но внезапно над огромной этой вероятной и пылкой симфонией опускаются поспешные и цветные театральные сумерки, как если бы под воздействием назревших во всех инструментах звуков вдруг где-то высоко пронизал молодую зелень голос иволги, укрытой в зарослях, — и внезапно вокруг делается торжественно одиноко и поздно, словно в вечернем лесу.
Едва ощутимое дуновение проходит по вершинам дерев, содрогание которых осыпает сухой налет черемухи — несказанный и горький. Высоко над меркнущими небесами пересыпается и плывет безбрежным вздохом смерти этот горький аромат, в который первые звезды роняют свои слезы, сорванные с этой бледной и лиловой ночи, точно чашечки сирени. (Ах, я знаю: ее отец — судовой врач, ее мать — квартеронка, и ее ожидает из ночи в ночь у пристани маленький темный речной пароход с колесами по бокам, и не зажигает огней.)
Но тут в дефилирующие пары, в молодых людей и девушек, снова и снова встречающихся в регулярном миновании, вступает какая-то удивительная сила и вдохновение. Каждый молодой человек становится как Дон Жуан прекрасен и неотразим, выступает гордый и победительный, а во взгляде достигает той убийственной силы, от которой девичьи сердца обмирают. У девушек же углубляются глаза, в них отворяются какие-то глубокие сады, расчерченные аллеями, лабиринты парков, темные и многошумные. Зрачки их расширяются праздничным блеском, без противления отворяются и впускают завоевателей в шпалеры темных своих садов, многократно и симметрично, точно строфы канцоны, расходящихся тропинками, дабы встретиться и обрести друг друга, как в печальной рифме, на розовых площадях, возле округлых клумб или у фонтанов, горящих вовсе запоздалым огнем зари, и опять разойтись и пропасть в черных массивах парка, вечерних дебрях, все более густых и шумных, где исчезают и теряются, словно в путаных кулисах, бархатных занавесах и укромных альковах. И невесть когда попадают сквозь прохладу темнейших этих садов в вовсе забытые, неведомые, уединенные места, в иной какой-то, куда более темный шум дерев, плывущий траурным крепом, в котором тьма накипает и вырождается, а тишина за годы немоты залеживается и фантасмагорически бродит, точно в старых позабытых пустых винных бочках.
Так, блуждая без дороги в черном плюше парков, они сходятся наконец на одинокой поляне, под распоследним пурпуром зари, над прудом, который от века зарастает черной тиной, и на обветшалой балюстраде, где-то на рубеже времени, у задней калитки мира снова находят друг друга в каком-нибудь давно минувшем времени, в далеком предсуществовании, и, угодив в не свое время, в костюмах ушедших веков, рыдают над муслином какого-нибудь шлейфа и достигают, взбираясь к недостижимым клятвам и восходя по ступеням исступления, вершин каких-то и границ, за которыми уже одна смерть и оцепенелость ненареченного упоенья.
XVIIЧто оно такое — весенние сумерки?
Достигли мы сути или дальше дороги нет? Мы у скончания наших слов, которые кажутся здесь примстившимися, бредовыми и темными. Но лишь за их рубежом начинается то, что в весне необъятно и невыразимо. Мистерия сумерек! Только за нашими словами, куда сила нашей магии уже не достигает, шумит темная эта, неохватная стихия. Слово распадается тут на элементы и самораспускается, возвращается в этимологию, снова уходит в глубину, в темный свой корень. Как это в глубину? Мы понимаем такое буквально. Вот смеркается, слова наши пропадают в непонятных ассоциациях: Ахерон, Оркус, Преисподняя… Чувствуете, как от всего этого темнеет, как сыплет кротовиной, как повеяло ямой, погребом, могилой? Что оно такое — весенние сумерки? Снова мы ставим свой вопрос, беспокойный этот рефрен наших упований, на который нет ответа.
Когда корни деревьев желают говорить, когда под дерном с избытком накоплено прошлого — давних повестей, стародавних гишторий, когда перенаберется под корнями сбивчивого шепота, бессвязного бормотания и того темного, без дыхания, что было до всякого слова, — тогда древесная кора чернеет и коряво распадается толстыми чешуинами, плотными пластами, темными порами открывая сердцевину, словно медвежью шкуру. Погрузи лицо в пушистый этот мех сумерек, и станет на какое-то время вовсе темно, глухо и бездыханно, как под крышкой. Тогда надо приставить пиявками глаза к наичернейшему мраку, совершить над ними легкое насилие, протиснуть сквозь непроницаемое, протолкнуть насквозь через глухую почву — и окажемся у меты, по ту сторону вещей. Мы в глубинах, в Преисподней. И видим…
Здесь вовсе не темно, как можно предположить. Напротив — недра сплошь пульсируют светом. Так и должно быть — внутренний свет корней, путаная фосфоресценция, слабые жилки свечения, которыми промраморена темнота, блуждающее светоносное мерцание субстанций. В точности как, когда спим, отъединенные от мира, безнадежно заплутавшие в глубокой интроверсии, на обратном пути к себе — мы тоже видим, отчетливо видим под закрытыми веками, ибо мысли тогда щепой воспламеняются внутри нас и, вспыхивая от узелка к узелку, призрачно бегут по длинным запальным фитилям. Так происходит в нас регрессия по всему направлению, отступление вглубь, обратная дорога к корням. Так ветвимся мы в этой глуби анамнезом, дергаясь от охвативших нас подземных судорог, грезим подкожно по всей сновидящей поверхности. Ибо только в высях, в свете — пора и это сказать — мы трепетный членораздельный букетик мелодий, сияющие жавороночьи верха — в глубинах мы снова распадаемся в черное бурчанье, в гул, в бессчетное множество нескончаемых историй.
Только теперь видно, на чем эта весна вырастает, отчего она так невыразимо печальна и тяжела от знания. Ах, мы бы не поверили, когда бы ни увидели собственными глазами! Вот они, подспудные лабиринты, склады и кладовки, вот они, теплые еще могилы, труха и перегной. Давние повести. Семь слоев, как в древней Трое, коридоры, кладовые, сокровищницы. Сколько золотых масок — маска к маске, сплющенные улыбки, выеденные лица, мумии, пустые личинки… Тут они, колумбарии, ящики для умерших, в которых те лежат, ссохшиеся, черные, как корни, и ждут своего часа. Тут они, большие аптекарские магазины, где их выставили на продажу в капельниках, тиглях, банках, и годами стоят они по полкам в гордых, торжественных порядках, хотя никто их не покупает. Может быть, они ожили уже в отсеках своих гнезд, поздоровевшие, чистые, как фимиам и благоухающие — щебечущие препараты, пробужденные нетерпеливые лекарства, бальзамы и умащения утренние, пробующие свой ранний вкус кончиком языка. Эти замурованные голубятни полны проклевывающихся клювиков и самого первого, пробного, светлого чиликанья. Как утренне и довременно делается вдруг в пустых и долгих шпалерах, где умершие пробуждаются целыми рядами, изрядно отдохнувшие, к совсем новому рассвету!..