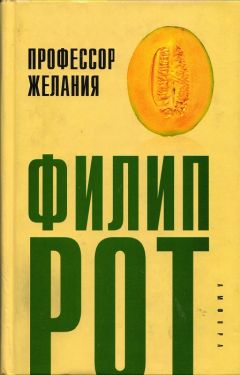Филип Рот - Профессор желания
— Дебби, давай договоримся. Я ничего не знаю о тебе, а ты ничего не знаешь обо мне. Я уверен, что твоя внутренняя жизнь таит много удивительного.
— Нет. У меня внутри ничего нет. Все на поверхности, хочешь верь, хочешь нет.
Мы оба смеемся.
— Скажи мне, что Артур в тебе находит? Это одна из неразрешимых загадок. Что в тебе есть такого, что мне не удается разглядеть?
— Все, — отвечает она.
В машине я передаю Клэр краткое содержание этого разговора.
— Язвительная женщина, — говорю я.
— Нет, просто глупая.
— Ей удалось обмануть тебя, Кларисса. Глупость — это только прикрытие. Она играет в убийственные игры.
— Ах, милый, — говорит Клэр. — Это тебя ей удалось обмануть.
Итак, я реабилитирован в обществе. Что касается моего отца и его устрашающего одиночества, то теперь раз в месяц он садится на поезд и приезжает с Лонг-Айленда на Манхеттен — к ужину. Его невозможно уговорить делать это чаще, но, если говорить честно, пока не было квартиры и Клэр, помогающей поддерживать разговор и приготовить ужин, я его не очень настойчиво уговаривал, чтобы мы не сидели, грустно смотря друг на друга над бараньим рагу, двое сирот в Чайнатауне… и чтобы я не дожидался, когда он, грызя орешки, спросит меня: «А тот парень, он не приходил больше, не беспокоил тебя?»
Чтобы обезопасить себя от вихря, имя которому Баумгартен, я несколько умерил наши с ним контакты. По-прежнему мы время от времени ходим с ним вместе обедать, но принимать участие в более грандиозных пиршествах я предоставил ему возможность самостоятельно. И я не познакомил его с Клэр.
Господи, как легко жить, когда легко, и как тяжело, когда тяжело!
Однажды поздно вечером, когда мы уже поужинали, а Клэр готовилась к занятиям на следующий день (на освободившемся обеденном столе), у меня хватило мужества, а вернее, мне больше не понадобилось мужество, чтобы перечитать то, что было мной написано в моей книге о Чехове, которая простояла на полке больше двух лет. Среди вымученных и убийственно компетентных фрагментарных глав на тему об утрате романтических иллюзий, я вдруг наткнулся на пять вполне читабельных страниц — размышлений, навеянных небольшим сатирическим рассказом Чехова «Человек и футляре» — об одном деспоте и всеобщей радости после его похорон.
«Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие», — говорит добродушный рассказчик после похорон деспота. В рассказе говорится о провинциальном школьном учителе, который благодаря своей любви ко всякого рода запретам и ненависти ко всякого рода исключениям из правил, в течение пятнадцати лет терроризировал целый город, в котором жили «хорошие, честные люди». Я перечитываю этот рассказ, потом перечитываю рассказы «Крыжовник» и «О любви», составляющие трилогию. Это размышления о том, к чему приводят духовная несвобода; деспотизм, даже мелкий; человеческое благодушие и, в конце концов, даже чрезмерное следование правилам хорошего тона. В течение следующего месяца с блокнотом на коленях я по вечерам размышляю над чеховскими рассказами, погружаясь в мир душевных мук несчастных людей, загнанных жизнью в угол; благовоспитанных жен, которые могут воскликнуть, обедая с гостями: «Почему я улыбаюсь и лгу?» и их мужей с их мнимым спокойствием и уверенностью, «которые традиционно тот говорят правду и так же традиционно лгут». Одновременно я слежу за тем, как Чехов просто и ясно, но не так безжалостно, как Флобер, разоблачает унижения и неудачи, и самое ужасное — разрушительную силу тех, кто ищет выход из «футляров» ограничений и условностей, повсеместной скуки и удушающего отчаяния, из тупиков супружеских отношений и заблуждений общества и стремится к желанной жизни. В рассказе «Неприятность» взбалмошная молодая женщина, которой наскучила ее респектабельность, жаждет «немножечко волнений»; в «Ариадне» томящийся от любви помещик беспомощно признается в неудавшемся романе с вульгарной светской львицей, которая мало-помалу превращает его в безнадежного женоненавистника, а он продолжает ее любить; в «Скучной истории» повествуется о молодой актрисе, энтузиазм и надежды которой на успех на сцене и в личной жизни улетучиваются при первом же знакомстве со сценой и мужчинами и после того, как она понимает, что лишена таланта: «У меня нет таланта, понимаешь, нет таланта… а есть тщеславие». А вот еще «Дуэль». Каждый вечер в течение недели я перечитываю чеховский шедевр о застигнутом врасплох неряшливом, умном, литературно образованном обольстителе Лаевском, запутавшемся в собственном вранье и жалости к самому себе, и о его сопернике, не знающем сострадания, мстительном и речистом фон-Корене. Во всяком случае, так я вижу эту историю — фон-Корен выполняет роль очень рационального и безжалостного обвинителя Лаевского, которого начинает мучить совесть. Именно это погружение в «Дуэль» послужило стимулом к тому, что я начал писать, и в течение четырех месяцев пять страниц из моей старой незаконченной работы были переделаны. Работа в сорок тысяч слов, носящая название «Человек в футляре», представляет собой эссе об отклонениях от нормы и строгости литературного стиля в произведениях Чехова — анализ причин пессимистических взглядов Чехова на те способы, которыми мужчины и женщины его времени тщетно пытаются добиться чувства личной свободы», которому был так привержен сам Чехов. Моя первая книга! С посвящением «К.О.»
— Если Элен была импульсивной, — говорю я Клингеру, — то у Клэр ровный характер; если Бригитта была неблагоразумной, то Клэр обладает здравым смыслом. Никогда в жизни я не видел, чтобы кто-нибудь так добросовестно относился к повседневным делам. Это просто пугает, то, как она использует каждый день, каждую минуту. Никаких пустых мечтаний, ровная, наполненная смыслом жизнь. Я доверяю ей. Вот что я считаю самым важным. Вот, что мне помогло, — торжествующе заявляю я, — доверие.
Ответом на это было «до свидания» и «счастливо» Клингера. У дверей его офиса, в то весеннее утро, когда мы расстались, я размышляю о том, неужели мне больше не нужно торопиться, подчиняться; я не нуждаюсь больше в. предостережениях, ободрении, разрешении, консолидации, поощрении, противодействии — короче, в профессиональной материнской и отцовской заботе и просто в дружбе, по часу три раза в неделю. Означает ли это, что я нее преодолел? Так просто? Благодаря Клэр? А что, если завтра утром я снова почувствую вместо сердца пустоту? Лишенный желаний, аппетита и сил, потеряю контроль над своим телом, разумом, чувствами…
— Заходи, — говорит Клингер, пожимая мне руку.
Точно так же, как я не мог смотреть ему прямо в глаза в тот день, когда не хотел признаться в том, как на мою совесть подействовала фотография его дочери — словно, скрывая этот факт, мог избежать его молчаливого осуждения или своего собственного, — я не мог выдержать его взгляда, когда мы прощались. Но теперь это было потому, что я не хотел, чтобы мои чувства, чувства радости и признательности, вылились в поток слез. Шмыгнув носом от избытка чувств и отметая все сомнения, я говорю:
— Надеюсь, мне это больше не понадобится.
Оставшись один, я повторяю потрясающие слова громко и теперь уже с подобающим чувством: «Я преодолел!»
В июне, когда для нас обоих закончился учебный год, мы с Клэр улетели на север Италии. Я впервые снова увидел Европу, с того момента, как десять лет назад мы путешествовали здесь с Бригиттой. Мы провели в Венеции пять дней, остановившись в тихом пансионе около Академии.
Каждое утро мы завтракали в напоенном ароматами саду нашего пансиона, а потом в спортивной обуви шли по мостам и аллеям, которые приводили нас к тем местам, что были намечены Клэр с утра на карте для посещений в этот день. Когда она фотографирует палаццо, храмы и фонтаны, я всегда отхожу в сторону, но всегда с удовольствием фотографирую ее с ее естественной красотой.
Каждый вечер, поужинав в саду под деревом, мы отправляемся в путешествие на гондоле. Клэр сидит рядом со мной в кресле, которое Манн описал, как «самое мягкое самое роскошное и самое удобное кресло в мире». Я снова спрашиваю себя, неужели эта безмятежность существует на самом деле, неужели такая гармония возможна? Может быть, худшее уже позади? Может быть, я не совершу больше ужасных ошибок? И не буду больше расплачиваться за старые? Может быть, то были ошибки молодости, затянувшейся бестолковой юности, которая осталась позади? I
— Ты уверена, что мы сейчас не умрем, — говорю я, — и не окажемся в раю?
— Я не знаю, — отвечает она, — спроси у гондольера.
В последний день мы отправляемся обедать в «Гритти». На террасе, заплатив метрдотелю, я указываю ему на тот столик, за которым воображал себя сидящим с той хорошенькой студенткой, которая ела конфеты на моих лекциях. Я заказываю то, что ел в тот день, когда мы читали рассказы Чехова о любви и я был на грани нервного срыва, только теперь это была не воображаемая еда с юной неиспорченной студенткой. На этот раз все реально, и я в порядке. Так мы сидим — я со стаканом холодного вина, Клэр, родители которой любили выпить, — со своей минеральной водой. Посмотрев на сверкающие воды, омывающие этот невероятно красивый сказочный город, я спрашиваю ее: