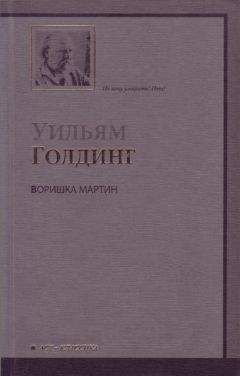Уильям Голдинг - Ритуалы плавания
Что ж. Я ничего не спрячу. Я поступлю единственно справедливым образом — я имею в виду настоящую справедливость, а не ту, которую являет собой капитан или сухопутные судьи, — и передам все доказательства в руки вашей светлости. Андерсон боится, что его спишут на берег. Если вы, как и я, считаете, что в своей жестокости он перешел всякие границы, тогда вовремя сказанное нужным людям слово может многое решить.
А я? Я описан гораздо правдивей, чем мне, честно говоря, хотелось бы. И поступки, которые казались мне достойными… Что ж, судите и меня.
Ах, Эдмунд, Эдмунд! Что за сентиментальные причуды? Разве не считал ты себя человеком трезвого ума, а не чувствительности? Разве не ощущал — нет, разве не верил, что беспечно принятая тобой общечеловеческая система морали уделяет больше внимания упражнениям разума, нежели порывам души? Вот и сейчас перед тобой вещь, которую хочется не обнародовать, а изорвать в клочья!
Я читал и писал всю ночь, простите мне некоторую невнятность. Все так зыбко и странно, и сам я словно бы в полусне. Пойду добуду клея и прикреплю письмо пастора тут, на этой странице. Оно станет еще одной частью Дневника Эдмунда Тальбота.
Сестра Колли ничего не должна знать. Еще одна причина для того, чтобы спрятать записки. Ее брат умер от нервной горячки — почему нет? Несчастная девушка-переселенка наверняка умрет от нее раньше, чем мы достигнем берега. О чем это я? Ах да, клей. Должен быть у кого-нибудь. К примеру, из копыт Бесси. Виллер наверняка поможет — вездесущий, всезнающий Виллер. А потом надо будет все спрятать. Теперь этот дневник несет в себе угрозу, подобно заряженному ружью.
Первая страница, а то и две утеряны. Именно их или ее я видел в руке у Колли, когда он в пьяном угаре шествовал по коридору с поднятой головой — шествовал, сияя, словно по небесам. Потом он впал в хмельное забытье, после чего пробудился — наверняка не сразу, мало-помалу. Какое-то время он не помнил, кто он и где он, а потом преподобный Роберт Джеймс Колли наконец-то пришел в себя.
Нет. Мне не нужно воображать, каково ему было. Я ведь заходил к нему в это самое время. Может быть, именно мои слова заставили его вспомнить все, что он потерял? Самоуважение. Симпатию коллег. Мою дружбу. Мое покровительство. В агонии схватил он злосчастное письмо, смял его и засунул как можно дальше — как засунул бы он сами воспоминания о случившемся, если бы это было возможно — подальше, поглубже, под койку, не в силах вынести мысли о… Нет, пора унять воображение. Разумеется, Колли довел себя до смерти, но вряд ли из-за дурацкого, одного-единственного… Вот если бы он совершил убийство или… Будучи тем, кто он есть, вернее — был… Нет, это просто бред, абсурд какой-то! Какая женщина могла бы подойти ему тут, на корабле?
А я что же? Я мог бы спасти его, если поменьше думал о собственной важности, и о том, что он утомит меня до смерти!
Ох уж эти суждения, рассуждения, интересные зарисовки и всплески остроумия, которыми я намеревался поразить вашу светлость! Вместо них приходится предоставлять вашему вниманию подробное описание счетов Андерсона и моих собственных просчетов.
Итак, перед вами:
ПИСЬМО КОЛЛИ
…Самое тяжкое и бессмысленное из своих испытаний я скрою завесой молчания. По причине затянувшейся морской болезни первые часы и дни запечатлелись в моей памяти смутно. Да и не хотелось мне живописать подробности — спертый воздух, жестокие нравы, распутство, богохульство — на корабле поневоле становишься всему этому свидетелем, будь ты даже лицо духовного звания! Теперь же, полностью оправившись от болезни, я в состоянии взяться за перо, и не могу удержаться, чтобы не вспомнить первые проведенные на корабле минуты. Пробившись через толпу на берегу, состоявшую из самой разношерстной публики, я попал на борт нашего славного корабля способом весьма трудоемким: меня подняли на палубу в своеобразной петле — наподобие качелей, висевших у нас позади хлева, — только несколько более сложно устроенной. На палубе я увидел молодого офицера, державшего под мышкой подзорную трубу.
Вместо того чтобы приветствовать меня, как подобает джентльмену приветствовать джентльмена, он повернулся к своим спутникам и высказался следующим образом:
— О Г…и, пастырь! Да наш «ворчун-драчун» выше мачты подпрыгнет!
Это один из примеров того, что мне предстоит здесь выносить. Не стану перечислять прочие подробности, дорогая сестра, ибо миновало уже много дней, как мы распрощались с берегами Альбиона. Хотя я немного окреп и могу сидеть за небольшой откидной доской, которая для меня и priedieu,[36] и пюпитр, и обеденный стол, на большее я покуда не решаюсь.
Мой первейший долг (после исполнения обязанностей, налагаемых на меня саном священника) — представиться нашему доблестному капитану, который владеет апартаментами двумя этажами — или, как мне теперь следует говорить, двумя палубами — выше. Надеюсь, он согласится передать мое письмо на какой-нибудь корабль, следующий обратным курсом, и таким образом ты получишь от меня весточку пораньше.
Покуда я писал, ко мне в каютку явился Филлипс (мой слуга!) и принес немного бульону. Он отсоветовал немедленно идти к капитану Андерсону. По его мнению, мне следует окрепнуть и начать принимать пищу в пассажирском салоне, а не в каюте — хотя бы столько, сколько я смогу, — и поупражняться в ходьбе в коридоре или же на палубе, где попросторней, — в том месте, которое он называет шкафутом, то есть там, где находится самая высокая мачта.
Моя милая сестрица, пусть я и не мог принимать пищу, как все же неблагодарно было с моей стороны роптать на свой жребий! Здесь истинный рай земной, нет, морской! Солнышко пригревает — настоящая благодать. А до чего красиво море — переливается красками, аки оперение птиц Юноны (сиречь павлинов), которые разгуливают по террасам Мэнстона. (Напоминаю: не упускай ни единого случая выказать внимание тамошним обитателям.) Подобное зрелище — наилучшее лекарство, коего можно пожелать, в особенности в сочетании с отрывком из Писания, предназначенным на каждый день.
На горизонте ненадолго появился парус, и я вознес краткую молитву за наше благополучие, кое в руцех Божиих.
Спокойствие офицеров и матросов помогает мне сохранять самообладание, хотя, впрочем, любовь и забота Спасителя — вот якорь, куда более надежный для меня, чем любой якорь на судне.
Посмею ли я признаться: когда неизвестный парус ушел за горизонт — а весь корабль так и не появился, — я поймал себя на суетных мечтаниях — будто корабль напал на нас, и я свершил героическое деяние — не из тех, которые пристали служителю Церкви; будучи в летах самых юных, я мечтал порой стяжать славу и богатство, сражаясь вместе с Героем Англии.[37] В сем простительном прегрешении я быстро покаялся. Ведь герои окружают меня со всех сторон и для них-то я и должен совершать богослужения. Я почти желал битвы — ради них! Они честно несут свою службу, бронзовые от загара; их мускулистые торсы обнажены, буйные кудри собраны в косы, штаны облегают сильные ноги и расширяются внизу, словно ноздри жеребца. С легкостью взбираются они на высоту сто футов. Не верь, прошу тебя, россказням недоброжелателей и дурных христиан о безжалостном обращении с матросами. Жестоких телесных наказаний мне тут видеть не доводилось, равно как и слышать о них. Самое суровое, что я видел — справедливое возмездие, примененное в должной степени к некоему юному джентльмену; досталось ему не более, чем иному нерадивому школяру, и кару он перенес столь же стоически.
Я должен дать тебе представление о нашем небольшом обществе, в котором мне предстоит жить неведомо сколько месяцев. Мы, то есть публика, так сказать, благородная, имеем резиденцию в задней части судна. По другую сторону шкафута имеется стена, а в ней — два проема с лестницами, или, как здесь говорят, трапами. Тут обитают наши славные матросы, а также пассажиры сортом пониже: переселенцы и тому подобное. Над всем этим возвышается еще одна палуба — полубак, а дальше — удивительнейшая вещь: бушприт. Ты, подобно мне, привыкла считать, что бушприт (помнишь корабль в бутылке у мистера Вэмбри?) — это палка, которая торчит с переднего конца корабля. Так вот, должен тебе сообщить: бушприт — мачта не хуже прочих, только расположена она почти горизонтально. Имеются на ней и реи, и штаги, и даже фалы. Скажу более — если другие мачты напоминают огромные деревья, по ветвям коих карабкаются наши отважные моряки, то бушприт можно уподобить дороге, крутой дороге, по которой они ходят, а порой и бегают. В поперечнике бушприт более трех футов. И прочие «палки» — мачты — именно такой толщины. Самого толстого бука в лесу Сейкера не хватит на эдакую громадину. Когда мне приходит на ум, что напавший враг или, что еще ужаснее, силы стихии могут сломать их с той же легкостью, с которой мы обрываем морковную ботву, меня охватывает ужас. Боюсь я, конечно, не за свою жизнь. Это ужас перед величием огромной военной машины и еще одно необычайное ощущение — трепет перед природой существа, чье желание и долг — управлять такими громадинами во славу Бога и короля. И разве у Софокла (древнегреческий драматург) хор, обращаясь к Филоктету, не напоминает ему о том же самом?