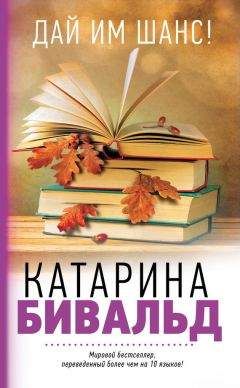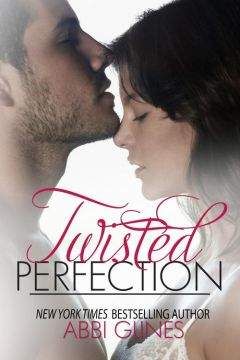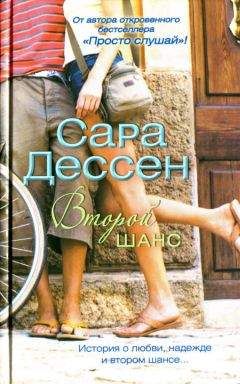Лола Лафон - Маленькая коммунистка, которая никогда не улыбалась
За несколько месяцев до того, как это стало реальностью, до того, как она на самом деле, добежав по гостиничному коридору до его двери, принялась стучать в нее – сначала вежливо, потом со слезами, господин учитель, откройте, откройте мне, пожалуйста, – Надя улавливала знаки, предвестники будущего, но не могла тогда их расшифровать. Бела часто просил кого-нибудь его заменить, его вызывали «по делам» в Бухарест, он получал и, даже не прочитав, в ярости рвал официальные письма, а Марта молча подбирала обрывки.
Как-то вечером они складывали вдвоем маты в пустом спортивном зале, и вдруг Бела обнял Надю, на мгновение прижал к себе и покачал, словно баюкая.
Потом она годами будет рассказывать, описывать, словно эпизод какого-нибудь фильма, как бежала по застеленному темно-синим ковром коридору, как влетела в пустую, пустую, пустую комнату и стала везде его искать, как снова и снова заглядывала за двери, хотя это не имело ни малейшего смысла: Бела был слишком крупным мужчиной, для того чтобы спрятаться за дверью, даже за дверью большого американского отеля. А тогда она очень быстро пришла в себя, тогда она наотрез отказалась комментировать предательство человека, которого в детстве часто называла папой, тут же со смехом прикрывая рот рукой и извиняясь.
Когда в последний день турне, в Нью-Йорке, Бела признался Наде, что не собирается возвращаться в Румынию, она расплакалась. Она умоляла, чтобы он разрешил остаться с ним, но «папа» отказал: Надя слишком молода, он не может гарантировать ей пристойную жизнь в этой стране. Так Бела пишет в своих мемуарах.
Неправда, категорическим тоном отвечает мне Надя. Она была «выдрессирована» (Надя употребляет именно это слово) так, чтобы не реагировать ни на какие заявления Белы, дистанция между ними была необходимой защитой, она не поверила, что Бела сбежит, потому вовсе и не плакала… Она настаивает на этом, будто это самая важная подробность.
Словом, поди разберись, что там произошло на самом деле…
В досье Секуритате каждая фраза об этом событии начинается с «кажется»: кажется, Бела предложил Наде бежать с ним; кажется, американцы, с которыми Бела был связан с 1978 года, помогли ему бежать; кажется, Марта и Бела Кароли много чего накупили в Нью-Йорке с целью усыпить подозрения, и с той же целью Геза звонил жене, просил встретить его завтра в аэропорту, потому что у него слишком много багажа.
В конце концов мне удается выстроить правдоподобную версию. В день отъезда, в половине десятого утра, вся команда во главе с тренерами и хореографом отправилась в торговый центр, который находился в пятистах метрах от гостиницы. Белу и Марту в последний раз видели в ювелирном отделе. В полдень недосчитались троих: Белы, Марты и Гезы. В три часа пополудни, когда пора было ехать в аэропорт, сообщили об их исчезновении румынским властям.
– Знаете, я боюсь, как бы эти подробности… как бы все эти подробности, – смущенно говорит Надя, когда звонит мне, – не увели ваших читателей от главного! Как они поймут, до какой степени Беле трудно было принять решение? Вы-то всегда путешествовали с обратным билетом в кармане! Вам не понять, что такое «остаться на Западе», – а для нас это означало бросить семью и друзей, зная, что отныне за ними будут следить с удвоенной бдительностью. Это решение страшно трудно было принять, мешало чувство вины… Я поняла, что произошло, только тогда, когда все начали искать Белу. Как будто проснулась. Бросилась к портье, что-то наплела, чтобы мне дали ключ от его номера. Там оказалось пусто. Это был… конец. Я-то думала, он… никогда не решится. В самолете девочки плакали, а парни из Секуритате паниковали, они спорили друг с другом, пытаясь разработать версию, которая помогла бы им себя выгородить.
Объяснительная записка одного из агентов заканчивается так: преследованиями со стороны властей, испорченной после Москвы репутацией, а главное – натянутыми отношениями с Надей, которую присвоил Сын Самого Чаушеску, и объясняется, почему он…
Румынская пресса обвиняет Белу в государственной измене, его имущество конфисковано, а его близкие и его воспитанницы взяты под усиленное наблюдение.
Я поняла так, что Надя безоговорочно поддерживает решение Белы, но она выводит меня из заблуждения:
– Он ушел, хлопнув дверью, а я тут же оказалась запертой на ключ. Я стала… узницей – хоть и дома. Изгнанницей – хоть и внутри страны.
– Но… вы ведь должны были догадываться, что он останется в Соединенных Штатах, после того как он собрал вас накануне побега и произнес взволнованную речь, внушая вам, что надо продолжать усердно трудиться, даже без него.
– Что? Нет… Кто это говорил, он? Ну ладно… (Она глубоко вздыхает.) Я вам уже объяснила: да, накануне он шепнул мне в коридоре гостиницы, что останется, но я приняла это за шутку… даже своего рода провокацию.
– Провокацию? Вы думали, он пытается вас подловить, как делали агенты Секуритате, посвящая близких в свои планы бежать, чтобы вызвать тех на откровенность?
Надя не отвечает на вопрос, но, понизив голос, говорит, что «вдруг вспомнила кое-что интересное»: когда она поднялась в свой номер за чемоданом (в это время тренеров везде искали и не могли найти), зазвонил телефон.
– Какая-то женщина… даже сейчас не имею ни малейшего представления о том, кто она… сказала, что звонит по поручению моего тренера и что Бела якобы просил ее узнать, хочу я остаться с ним в Соединенных Штатах или вернуться. Я, разумеется, повесила трубку!
Слушаю, испытывая странное ощущение, что рассказ от меня ускользает, что вся история лжива от начала до конца, что «интересное» (на самом деле – несущественная деталь) потребовалось только для того, чтобы добавить напряжения в дешевый шпионский фильм. Надя режиссирует. Она расставляет декорации и персонажей, шлифует тексты каждого из них. Ее собственный текст остается очень коротким, а может, его и нет совсем, этого текста неискусной феи, только и умеющей, что перемещать запятые. Стоит ей раскрыть рот – зрители, судьи и президенты начинают вопить, слова оказываются всегда не теми, которые другим хотелось бы услышать. Вроде этого «Ну и что?», брошенного в ответ Беле, когда «папа» пытался втолковать ей, что никогда не вернется в Румынию. Реплика усталого подростка, девочки, которая не позволяет себе разволноваться из-за отъезда человека, воспринимавшего самого себя как отца. Она-то, между прочим, сейчас предпочитает называть его «менеджером»…
Версии перепутываются, наши слова сражаются между собой, Надя, стараясь одержать верх, лавирует. После этого я несколько дней не посылаю ей ничего – возможно, хочу защитить свой рассказ от ее непрекращающихся попыток переделать текст по-своему. Мне остается назвать не так много дат, Румыния после 1981 года окончательно закрылась для средств массовой информации, и у меня нет об этом периоде почти никаких сведений. Поэтому в главах об универсиаде 1981 года[49], о Надином уходе из спорта и чествовании ее по этому случаю в 1984-м я буду полностью зависеть от моей героини и того, что она помнит.
– А вам известно, что Самаранч наградил меня олимпийским орденом?
Приходится ее успокаивать: я обязательно запишу все ваши почетные титулы, я непременно расскажу о том, как мир вас чествовал… Все чаще и чаще наши разговоры перестают быть диалогом, обменом репликами. Наверное, в этом есть и моя вина, потому что сейчас, например, я не решаюсь поделиться с Надей своим недоумением. Ну а что бы я могла сказать? Набрала в поиске ваше имя и имя Нику Ч., Сына Самого[50], и в ответ много раз получила одно и то же выражение: принудительная идиллия. Как задать вопрос об этом? Что такое в данном случае «идиллия»? И что такое «принудительная идиллия»?
Говорят, Сын Самого Чаушеску над ней измывался. Отбирал заработанные ею деньги, чтобы «возлюбленная» от него зависела. Хвастался «своей» олимпийской чемпионкой перед друзьями. Требовал, чтобы в любое время являлась, стоит ему только свистнуть. А чтобы ни одно произнесенное ею слово от него не ускользнуло, утыкал всю квартиру, которую сам же ей и подарил, сверхчувствительными микрофонами…
Казалось бы, омерзительные подробности отношений между Надей и тем, кого румыны втихомолку называли Царьком, после 1989 года стали известны всем. Однако недавно возникла новая версия: румынская желтая пресса опубликовала интервью соседей Царька, где те свидетельствуют: Надя на подаренном Нику Чаушеску «фиате» внезапно наезжала на его виллу в Сибиу[51] потому что была одержима мыслью застать любовника с другими женщинами. Она ревновала. И злилась.