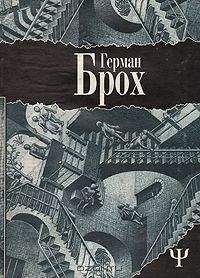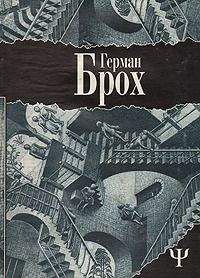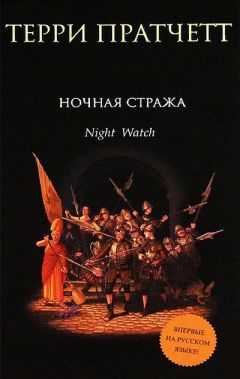Герман Брох - Избранное
Она приостановилась, чтобы перевести дух. И, не обращая особого внимания на своего слушателя, усевшегося между тем на своей кушетке, продолжала:
— Когда родился ребенок, Хильдегард-то эта, господину барону уж было под пятьдесят и он только-только сделался председателем суда. Может, ему и не очень было по нраву, что я появилась в доме, он-то уж наверняка не забыл, что когда-то цапал меня за груди, и я не забыла: такие вещи не забываются, застревают в памяти навсегда. Теперь-то, конечно, ходи я даже голой и будь аппетитнее прежнего, он уже не смотрел в мою сторону. Он стал тем, чем ему было назначено, — человеком, которому не до женщин. Да хоть он и не мог уже — таких ведь много, что не могут, а потому особенно хотят… эти-то самые противные. Нет, у него «не могу» выходило из «не хочу», и это его еще больше украшало. Если б Хильдегард была его дочь, она была бы красивой женщиной.
— Она и есть красивая женщина, — решился возразить А., — а когда я впервые увидел портрет председателя суда в столовой, то сразу обратил внимание на то, как они похожи.
— Это я, — Церлина усмехнулась, — я сама сделала ее похожей на него. Когда она была маленькой, я то и дело водила ее к портрету и учила ее смотреть, как он. Ведь все дело во взгляде.
Сообщение, что и говорить, неожиданное. А. задумался.
— Вместе со взглядом она должна была приобрести и его душу.
— Этого-то я и добивалась, конечно, как раз этого… Но она женщина, и в ней кровь другого.
— Кто был этот другой? — произнес он почти против воли, вложив в вопрос нечто большее, чем просто любопытство.
— Другой? — усмехнулась Церлина. — М-да, другой захаживал иногда к ее превосходительству на чай; поначалу мне ни к чему было, что и госпожа баронесса повадилась к нам заглядывать, и все без мужа. Но что другой-то, господин фон Юна тоже был очень красив, это я заметила сразу: рыжевато-каштановая бородка, рыжевато каштановые кудри, кожа чуть темнее морской пены, а держался так, словно изготовился к танцу. Да уж, обзавидоваться можно, какого себе отыскала красавчика. Только если вглядеться получше, за красивой бородкой, даже за красивыми губами проступало в лице что то противное — это «не могу» и «всегда хочу», противная похоть, что от слабости. Охмурить такого — ну легче легкого, захотела бы я и в первый же день… — она точно раздавила пальцами блоху, — имела бы его как миленького. Ее превосходительство говорили, он-де из тех, что постоянно в разъездах, на дипломатической службе, что ли, дипломат, значит. Ладно. Обосновался он в старом Охотничьем домике, — рука ее указала куда-то далеко, — да не охоты ради, а ради баб, они у него там не переводились. Люди, конечно, больше догадывались, чем знали, он-то все делал, чтобы раздразнить любопытство своими исчезновениями, да появлениями, да многочисленными женщинами. И мне любопытно было. А из лесничихи, что у него прислуживала, слова было не вытянуть. Держала она язык за зубами, и все тут, то-то я удивлялась, когда он ее прогнал: для службы своей вполне годилась. Вот так он и жил, а ребеночек на первых порах ужасно был на него похож. Как же, думаю, она покажет ему ребенка-то? Прямо сгорала я от любопытства. Ну, она выпуталась; внученька должна была в день исполнения двух месяцев нанести визит бабушке. Вот, думаю, тебе и случай. Приехали мы к ее превосходительству, значит, ребенка спать уложили в гостиной, а меня на аркане из комнаты было не вытащить, потому что знала: сейчас и этот явится, вроде как невзначай. И как она себя выдаст, я уж в точности себе представила. Долго-то ждать не пришлось, я чуть не рассмеялась, когда она и впрямь его ввела, и уж вовсе чуть не прыснула, когда он над кроваткой наклонился, папаша-то, а она от волнения так и хвать его за руку. Вроде взаправду волновалась, а вроде и притворство одно. Он-то был похитрей, заметил, что я за ним наблюдаю, и уже на выходе посмотрел на меня, как будто через этот взгляд от отцовства своего отрекался и глазами-то сказал, что не она, а я была бы для него подходящая. А мне-то что терять, тоже глазами показываю, что, мол, поняла.
Давняя улыбка-ответ словно по волшебству явилась вдруг на ее лице, засветилась, как старчески сморщенное, старчески увядшее эхо себя самой, и была, из-за этой своей усохшести, чем-то вечно длящимся, как вечно длящийся ответ.
— Дала я ему это понять и сама смекнула, что дошло до него, что проняло его, не успокоится он теперь, пока не переспит со мной. А мне того и надо. И меня-то саму забрало, хотя ни он, ни я вроде к этому прежде не стремились. Человек немногого стоит. И не только бедная служанка из деревни, нет, всякий человек; святой разве так мудр и силен, что может не размениваться на дешевку. Но ведь и для страсти, для влечения, как ни дешево оно стоит, нужна сила, и хуже всех те, что из-за слабости своей, из-за никуданегодности делают вид, что они-де выше всех. Они-то самая дешевка и есть, все эти хитрецы, что лгут из трусости и из слабости да орут погромче о своем душевном дерьме, чтобы заглушить истинную свою натуру, потому что слишком груба она для них, а пуще того потому, что они вообще не имеют о ней понятия и полагают, что этим ором отвлекут ее и удержат. Душа у них, видишь ли, нацелена, чтобы страсть удовлетворить — и в то же время чтобы ее заглушить. А госпожа баронесса? Ни слова громкого во весь день, да и… голову заложу, ничегошеньки, кроме душевного дерганья, во всю ночь. Конечно, не ее вина, что никогда она не была настоящей женщиной и не могла ею стать — при суровой-то святости господина барона. Чего ж удивляться было, что досталась другому, похотливому. Ребеночка она с ним прижила во время последней поездки своей на воды; совпало все день в день. Ну и что же? Почему тогда не осталась с ним? Почему не сбежала к нему в Охотничий домик? Куда там! Похоть для этого была слишком мала, а страх слишком велик, сама же слишком была слабой да лживой. С таким же успехом можно было ей предложить улечься с ним на базарной площади. Все же хотелось мне ей помочь, в ущерб, так сказать, собственным чувствам, несмотря на ревность, да разве ей что втолкуешь. Наконец, когда господин председатель суда уехал как-то в Берлин, взялась я прямехонько за дело. «Госпожа баронесса, — говорю я ей, — неплохо бы вам, госпожа баронесса, иной раз и гостей позвать». Она так сдуру-то: «Гостей? А кого же?» Ну, я вроде как бы между прочим: «Ну, хоть господина фон Юну». Смотрит на меня эдак сбоку и подозрительно так говорит: «Ах нет, только не его». Ладно, думаю, поглядим. А в ней-то засело, и через пару деньков впрямь зовет его на чай. У нас тогда еще вилла была — самый шик, приемные комнаты со столовой внизу были; и мебели просторно, не как здесь, где только и знаешь, что обо все спотыкаешься, порядок навести никакой возможности, особенно когда Хильдегард мне не помогает. Так вот, была тогда у нас настоящая гостиная зала, и госпожа баронесса сидела там с ним, ну, прямо за километр друг от друга; я им подавала, на взгляды его не отвечала, а под конец попросила дозволения совсем уйти. Светелка моя — там, в мансарде, — тоже, конечно, была загляденье, не сравнить с теперешней. Когда же я попозже прокралась посмотреть, как у них идут дела, все было по-прежнему: сидели себе спокойненько, теперь уже в салоне, он скучливо так поглядывал своими бархатными глазами, и, даже когда она поднялась, чтобы налить ему чашечку свежего кофе, он и не попытался коснуться ее руки или там погладить. Ну вот и этого она просвистела, подумала я. Так и бывает, когда в постели все толкуют о любви, а не выбивают похоть, все равно что барабанную дробь. Дело, вижу, совсем разладилось, и жаль мне их обоих, его особенно, ведь ребеночек-то связал их теперь, никуда не денешься. Конечно, в глубине души я и радовалась, что все так вышло, потому и притаилась в кустах у подъезда и ждала его, а как только он вышел, мы уж тут, ни слова не говоря, в один миг слились в поцелуе. Я так впилась в него и губами, и зубами, и языком, что думала, потеряю сознание, но все же устояла против него. Не знаю даже, как это мы с ним не повалились просто в траву, и уж совсем непонятно, почему не провела я его к себе наверх, когда он потребовал этого хриплым голосом, а я ответила: «В Охотничьем домике, у тебя». Но при этих моих словах его будто передернуло от ужаса, испуг был как у зверя; тут дошло до меня, что у него там женщина, что потребовала я невозможного, тут и стало мне ясно, что сопротивлялась-то я ради этого невозможного, чтобы сломить его, и что сидело во мне мощное и жестокое любопытство к тому, что в Охотничьем домике, и разжигало меня сильней похоти, и что оно само, любопытство это, было как часть этой похоти, как горечь ее и беда.
Все еще действовавшее сквозь годы возбуждение заставило ее присесть; опершись локтями о стол, зажав голову кулаками, она некоторое время молчала. Когда же стала продолжать свой рассказ, то совершенно изменившимся голосом: шепотом, почти псалмовым распевом и так, будто вместо нее говорил кто-то другой.