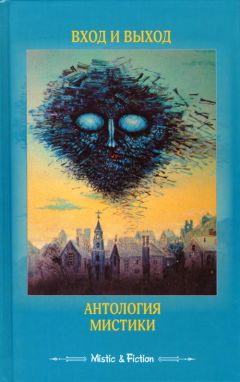Генри Миллер - Тропик Рака
Надо жить в чужой стране, такой, как Франция, и ходить по меридиану, отделяющему полушарие жизни от полушария смерти, чтобы понять, какие беспредельные горизонты простираются перед нами.
Электрическое тело! Демократическая душа! Наводнение! Матерь Господня, что же означает вся эта ерунда? Земля засохла и потрескалась. Мужчины и женщины слетаются, точно стаи ворон над вонючим трупом, спариваются и снова разлетаются. Коршуны падают с неба, точно тяжелые камни. Клювы и когти — вот что мы такое. Большой пищеварительный аппарат, снабженный насосом, чтобы вынюхивать падаль. Вперед! Вперед без сожаления, без сострадания, без любви, без прощения. Не проси пощады и сам никого не щади. Твое дело — производить. Больше военных кораблей, больше ядовитых газов, больше взрывчатки! Больше гонококков! Больше стрептококков! Больше бомбящих машин! Больше и больше, пока вся эта е…ная музыка не разлетится на куски — и сама Земля вместе с нею!
Сойдя с поезда, я тут же понял, что совершил роковую ошибку.
Первый же взгляд, брошенный на лицей, заставил меня содрогнуться. Некоторое время я в нерешительности стоял у ворот, размышляя, идти мне дальше или повернуть назад. Но денег на обратный билет у меня не было, так что вопрос носил чисто академический характер.
Отведенная мне комната была довольно большой, с маленькой печуркой в углу. От печурки шла труба, изгибавшаяся под прямым углом как раз над железной койкой. Возле двери стоял огромный ларь для угля и дров.
Оказалось, что обедать еще рано, и я повалился на кровать прямо в пальто, а сверху натянул одеяло. Возле меня стояла неизменная шаткая тумбочка с ночным горшком. Я поставил на стол будильник и стал следить за движением стрелок. Печурка раскалилась докрасна, но теплее от этого не стало. Я начал бояться, что засну и пропущу обед. Тогда придется ворочаться всю ночь с пустым животом.
За несколько секунд до гонга я вскочил с кровати и, заперев дверь, бросился во двор. Там я сразу заблудился. Четырехугольные здания и лестницы походили друг на друга, как две капли воды. Вдруг я заметил энергичного человека в котелке, шедшего мне навстречу. Я остановил его и спросил, как пройти в столовую. Оказалось, что он-то мне и нужен. Это был сам господин Директор. Узнав, кто я, он просиял и осведомился, хорошо ли я устроен и не нуждаюсь ли в чем-нибудь. Я ответил, что все в порядке. Правда, в комнате несколько прохладнее, чем хотелось бы, осмелился я добавить. Господин Директор заверил меня, что для Дижона это весьма необычная погода. Иногда бывают туманы и снегопад — тогда действительно лучше какое-то время не выходить и т. д. и т. п. Говоря все это, он поддерживал меня под локоток, и мы шли по направлению к столовой. Господин Директор мне сразу понравился. «Славный парень», — думал я. Я даже предположил, что мы можем подружиться и он в холодные вечера будет приглашать меня к себе на стакан грога. Множество приятных мыслей пришло мне в голову по дороге к дверям столовой. Тут господин Директор внезапно приподнял котелок, пожал мне руку и, пожелав всего доброго, удалился. Я так растерялся, что тоже приподнял шляпу.
Но так или иначе, я нашел столовую. Она была похожа на ист-сайдскую больницу — белые кафельные стены, лампочки без абажуров, мраморные столы и, конечно, огромная печь с причудливо изогнутой трубой. Обед еще не подали. В углу толпилась кучка молодых людей, о чем-то оживленно разговаривающих. Я подошел к ним и представился. Они приняли меня чрезвычайно радушно, даже слишком радушно, как мне показалось. Я не мог понять, что это значит. В столовую входили все новые и новые люди, и меня передавали все дальше и дальше, представляя вновь пришедшим. Вдруг они окружили меня тесным кольцом, наполнили стаканы и запели:
Однажды вечером — извилист мысли путь! —
Пришла идея: висельнику вдуть.
Клянусь Цирцеей — тяжкая езда:
Повешенный качается, мудак,
Пришлось е…. его, подпрыгивая в такт.
Клянусь Цирцеей — вечно все не так!
Е…ся в узкое подобие п… —
Клянусь Цирцеей — хрен сотрешь до дыр.
Е… же непомерную лохань —
Он скачет в закоулках, как блоха!
Дрочить вручную — нудная труха…
Клянусь Цирцеей, вечно жизнь плоха [9]
Эти надзиратели оказались веселыми ребятами. Один из них, по имени Кроа, рыгал, как свинья, и всегда громко пукал, садясь за стол. Он мог пукнуть тринадцать раз подряд, что, по словам его друзей, было местным рекордом. Другой, крепыш по прозвищу Господин Принц, был известен тем, что по вечерам, отправляясь в город, надевал смокинг. У него был прекрасный, как у девушки, цвет лица, он не пил вина и никогда ничего не читал. Рядом с ним сидел Маленький Поль, который не мог думать ни о чем, кроме девочек; каждый день он повторял: «С пятницы я больше не говорю о женщинах». Он и Принц были неразлучны. Был еще Пасселло, настоящий молодой прохвост, который изучал медицину и брал взаймы у всех подряд. Он без остановки говорил о Ронсаре, Вийоне и Рабле. Напротив меня сидел Моллес. Он всегда заставлял заново взвешивать мясо, которое нам подавали, проверяя, не обжуливают ли его на несколько граммов. Он занимал маленькую комнатку в лазарете. Его злейшим врагом был господин Заведующий Хозяйством, что, впрочем, нисколько не отличало его от остальных. Господина Заведующего ненавидели все. Моллес дружил с Мозгляком. Это был человек с мрачным лицом и ястребиным профилем; он берег каждый грош и давал деньги под проценты. Мне он напоминал гравюру Дюрера — соединение всех мрачных, кислых, унылых, злобных, несчастных, невезучих и самоуглубленных дьяволов, составляющих пантеон немецких средневековых рыцарей. Без сомнения, Мозгляк был евреем. Он погиб в автомобильной катастрофе вскоре после моего появления — обстоятельство, спасшее мне двадцать три франка. За исключением Рено, моего соседа по столу, эти люди не оставили никакого следа в моей жизни; они принадлежали к разряду бесцветных личностей, из которых состоит мир инженеров, архитекторов, дантистов, фармацевтов, учителей и т. д. Они ничем не отличались от тех олухов, которыми без всякого на то права будут помыкать всю жизнь. Это были круглые нули; ничтожества, которые составляют ядро нашего почтенного и никому не нужного общества. Они ели, наклоняясь над тарелками, и всегда требовали добавки. Они отлично спали и никогда ни на что не жаловались — они не были ни счастливы, ни несчастливы. Равнодушные, которых Данте поместил в преддверие Ада. Элита.
После обеда все они сразу же отправлялись в город. В лицее оставались только дежурные по спальням. В центре города было множество кафе, пустых и скучных, где сонные дижонские лавочники собирались поиграть в карты и послушать музыку. Лучшее, что можно сказать об этих кафе, — в них отличные печки и удобные стулья. Незанятые проститутки за стакан пива или чашку кофе охотно подсаживались к вашему столику поболтать. Но музыка была чудовищная. В зимний вечер в такой грязной дыре, как Дижон, нет ничего хуже, чем звуки французского оркестрика. Особенно если это один из унылых женских ансамблей. Они не столько играли, сколько скрипели и пукали, но делали это в сухом алгебраическом ритме и так монотонно, точно выдавливали зубную пасту из тюбика. Отсипеть и отскрипеть за сколько-то франков в час — и к черту остальное! Грустно все это! Так же грустно, как если бы старик Евклид глотнул синильной кислоты. Царство Идеи нынче настолько задавлено разумом, что в мире ничто уже не способно породить музыку, ничто, кроме пустых мехов аккордеона, из которых со свистом вырываются звуки, раздирающие эфир в клочья. Говорить о музыке в Дижоне — все равно что мечтать о шампанском в камере смертников. Нет, к здешней музыке я был равнодушен. Более того, я даже перестал думать о женщинах — настолько все здесь было мрачно, холодно, серо, безрадостно и безнадежно.
У меня была масса времени и ни гроша в кармане. Два-три часа в день я должен был вести уроки разговорного английского — вот и все. А зачем этим беднягам английский язык? Мне было их жаль до слез. Долбить все утро страницы из «Прогулки Джона Гилпина», а днем приходить ко мне для практических занятий этим мертвым языком. Я думал о времени, которое я потерял, читая Вергилия и копаясь в такой непроходимой чуши, как «Герман и Доротея». Вот безумие! И я вспоминал Карла, который знает «Фауста» наизусть и в каждой книге непременно должен лизнуть ниже пояса своего бессмертного, безупречного Гёте. А между тем у него не хватает ума, чтобы завести себе богатую бабу или купить новые подштанники. Есть что-то непристойное в этом почитании прошлого, и кончается оно обычно ночлежками или окопами. Есть что-то непристойное в духовном жульничестве, которое позволяет идиоту кропить святой водой пушки «Большая Берта», броненосцы и динамит. Каждый человек, набитый классиками, — враг рода человеческого.