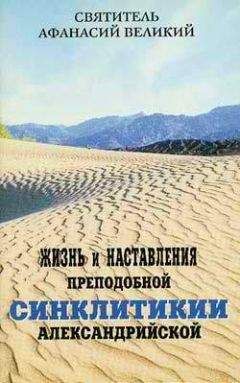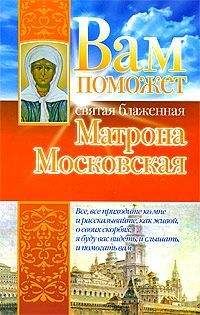Чарльз Буковски - История обыкновенного безумия
— ага, я у них самый ходовой товар, я продаюсь лучше, чем все их выпуски Данкана, Крили и Левертов, вместе взятые, но это вряд ли о чем-нибудь говорит — «Лос-Анджелес тайме» тоже каждый вечер продается в огромном количестве, а читать в «Лос-Анджелес тайме» абсолютно нечего.
— ага.
мы трудимся над пивом.
— как Гарри? — спрашиваю я.
Гарри — настоящий ребенок, Гарри БЫЛ ребенком после сумасшедшего дома, я написал предисловие к первой книжке его стихов, стихи были приличные, в них чувствовался пронзительный крик.
потом Гарри досталась работенка, от которой я отказался, — писать в журналах для мужчин, я сказал редактору «нет» и прислал к нему Гарри. Гарри был тупицей; он устраивался работать приходящей нянькой, стихов он больше не пишет.
— а, Гарри! у него ЧЕТЫРЕ мотоцикла, четвертого июля он собрал во дворе толпу и устроил фейерверк долларов на пятьсот, за пятнадцать минут пятьсот долларов упорхнули в небо.
— Гарри пошел в гору.
— еще бы! жирный как поросенок, пьет хорошее виски, все время ест. он женат на девице, которой досталось сорок тысяч долларов от покойного муженька, с муженьком произошел несчастный случай во время подводного плавания, то есть он утонул, теперь у Гарри есть снаряжение для подводного плавания.
— прекрасно.
— тем не менее тебе он завидует.
— почему?
— не знаю, стоит упомянуть твое имя, как он начинает беситься.
— да у меня все висит на волоске, мне уже почти не на что рассчитывать.
— они носят свитера с именами друг друга, она считает Гарри великим писателем, ходит вокруг него на цыпочках, сейчас они ломают стену, чтобы у Гарри был большой кабинет, звуконепроницаемый, как у Пруста, или не у Пруста?
— у которого стены были обиты пробкой?
— ага, кажется, в любом случае это обойдется им тысячи в две. представляю себе, как этот великий писатель творит в своей пробковой комнате: «Лили грациозно перемахнула через изгородь фермера Джона…»
— хватит о нем. он просто смешон, когда купается в деньгах.
— ага. а как твоя малютка? как ее зовут? Марина?
— Марина Луиза Буковски. ага. на днях она увидела, как я вылезаю из ванны, ей три с половиной года, знаешь, что она сказала?
— нет.
— она сказала: «Хэнк, ты только посмотри на себя, дуралей! спереди у тебя все болтается, а сзади ничего нет!»
— ничего себе!
— ага. ей подавай елду с обеих сторон.
— кстати, неплохая идея.
— только не для меня, у меня и для одной-то работы не хватает.
— у тебя есть еще пиво?
— конечно, извини, я сходил за пивом.
— Ларри заходил, — сказал я ему.
— да?
— ага. он уверен, что революция начнется завтра утром, может, начнется, а может, и нет: кто знает! я твержу ему, что революции должны начинаться ИЗНУТРИ, а не СНАРУЖИ, во время беспорядков все первым делом бросаются расхватывать цветные телевизоры, им нужна та самая отрава, которая превратила в придурков их врагов, но он и слышать ничего не хочет, всюду таскает винтовку, он ездил в Мексику к тамошним революционерам, революционеры пили текилу и позевывали, к тому же существует языковой барьер, теперь на очереди Канада, в одном из северных штатов у них припрятаны запасы провизии и оружия, но атомной бомбы-то у них нет. их в момент разъебут. и авиации никакой.
— у вьетнамцев тоже нет ничего такого, но они держатся.
— это потому, что из-за России и Китая мы не можем применить атомную бомбу, а что, если мы решим сбросить бомбу на убежище в Орегоне, где скрываются сплошные Кастро? ведь это наше личное дело, верно?
— ты рассуждаешь как добропорядочный американец.
— в политику я не лезу, я наблюдатель.
— хорошо, что не все такие наблюдатели, иначе мы бы ничего не достигли.
— а мы чего-то достигли?
— не знаю.
— вот и я не знаю, зато я знаю, что среди революционеров полно дерьма и тупиц, а таким тупицам не под силу довести это дело до конца, старина, я же не говорю, что не надо помогать бедным, учить грамоте неграмотных, укладывать в больницы больных и все такое, я говорю лишь о том, что мы обряжаем кое-кого из этих революционеров в рясы, тогда как многие из них просто больные люди, которых донимают прыщи, которых бросили жены, у которых на шее болтаются шнурки с идиотскими символами мира, многие из них просто попали в струю и в другое время могли бы работать на заводах Форда, если бы их туда взяли, я не хочу менять одних плохих руководителей на других — мы и так делаем это на каждых выборах.
— и все-таки я думаю, что революция избавила бы нас от кучи дерьма.
— и избавит, победит она или нет. она избавит нас от кучи как плохих вещей, так и хороших, история человечества развивается очень медленно, а меня лично устроит и небольшой насест.
— откуда удобнее наблюдать.
— откуда удобнее наблюдать, выпей еще пивка.
— и все-таки ты рассуждаешь как революционер.
— слушай, равви, я пытаюсь рассмотреть этот вопрос со всех точек зрения, а не только с моей стороны, правящая верхушка действует весьма хладнокровно, надо отдать должное, к правящей верхушке я могу в любой момент обратиться, и уверен, что буду иметь дело с крутыми ребятами, посмотри, что они сделали со Споком, с обоими Кеннеди, с Кингом, с Малкольмом Иксом, список можно продолжить, он длинный, крупных воротил нахрапом не возьмешь — мигом окажешься в «Форест-Лоне» и будешь до конца своих дней выкрикивать всякую революционную чушь в картонку от туалетной бумаги, но все меняется, молодые посообразительнее старых, и старые вымирают, еще есть шанс обойтись без массовых убийств.
— тебя заставили пойти на попятный, а для меня одно из двух: «Победа или Смерть».
— вот и Гитлер говорил то же самое, ему досталась смерть.
— а что плохого в смерти?
— сегодня мы обсуждаем другой вопрос: что плохого в жизни?
— ты написал такую книгу, как «УЛИЦА СТРАХА», и после этого готов сидеть и пожимать руки убийцам?
— я что, с тобой за руку поздоровался, равви?
— тебе бы все шутки шутить, а в этот самый момент творятся жестокости.
— ты о пауке с мухой или о кошке с мышкой?
— я о жестокости человека по отношению к человеку, а ведь человек способен соображать, что к чему.
— в твоих словах что-то есть.
— конечно, черт возьми! не у одного тебя язык хорошо подвешен.
— ну и что ты предлагаешь? поджечь город?
— нет, поджечь страну.
— я же говорил, из тебя выйдет шикарный раввин.
— спасибо.
— ну хорошо, спалим мы страну, а чем мы ее заменим?
— скажешь, не удалась американская революция, французская революция не удалась, русская революция не удалась?
— не совсем, целей своих они явно не достигли.
— это была лишь попытка.
— скольких людей надо убить, чтобы продвинуться на дюйм вперед?
— а скольких убивают, вообще оставаясь на месте?
— иногда мне кажется, что я говорю с Платоном.
— так и есть: с Платоном, отрастившим иудейскую бороду.
воцаряется тишина, и проблема повисает в воздухе, тем временем вонючие притоны заполняются разочарованными и отверженными; бедняки умирают в богадельнях от нехватки врачей; тюрьмы так переполнены оступившимися и заблудшими, что не хватает коек, и заключенные вынуждены спать на полу, приносить утешение — значит совершать милосердный поступок, действие коего длится недолго, и сумасшедшие дома набиты битком, потому что общество играет людьми, как пешками…
чертовски приятно быть интеллектуалом или писателем и наблюдать за всеми этими мелочами, пока САМОГО не прихватит за жопу, вся беда интеллектуалов и писателей в том, что они ни черта не чувствуют, кроме собственного комфорта или собственной боли, что, в общем-то, нормально, но гнусно.
— а в Конгрессе, — говорит мой приятель, — полагают, что можно решить какие-то проблемы с помощью закона об ограничении продажи оружия.
— ага. тем более нам известно, кто стреляет из большей части этих пистолетов, правда, мы не столь уверены в том, кто стреляет из остальных, армия ли это, полиция, государство или какие-то другие безумцы? боюсь предположить, не то еще, чего доброго, окажусь следующей жертвой, а мне надо успеть закончить несколько сонетов.
— не думаю, что ты такая уж важная птица.
— и слава богу, равви.
— хотя, по-моему, в глубине души у тебя засел маленький трус.
— правильно, трус — это человек, который способен предвидеть будущее, храбрец почти всегда лишен воображения.
— иногда мне кажется, что из ТЕБЯ получился бы хороший раввин.
— вряд ли. у Платона не было иудейской бороды.
— отрасти.
— выпей пивка.
— спасибо.
и вот мы умолкли, это еще один странный вечер, люди приходят ко мне, они разговаривают, они заполняют меня собой: будущие раввины, революционеры со своими винтовками, ФБР, шлюхи, поэтессы, молодые поэты из Калифорнийского государственного колледжа, профессор из Лойолы, направляющийся в Мичиган, профессор из университета в Беркли, еще один, который живет в Риверсайде, трое или четверо ребят, путешествующих автостопом, явные бродяги с мозгами, забитыми книгами Буковски… одно время я думал, что вся эта банда посягает на мои прекрасные, драгоценные мгновения и погубит их, но пока мне везет, везет, потому что каждый мужчина, каждая женщина что-то приносят и что-то мне оставляют, и я больше не должен чувствовать себя отгородившимся каменной стеной, как Джефферс, к тому же мне везет и в другом отношении, ведь слава моя не столь уж и велика, и я едва ли когда-нибудь превращусь в Генри Миллера с поклонниками, разбившими лагерь на лужайке перед домом, боги ко мне весьма благосклонны, они сохранили мне жизнь и рассудок и до сих пор дают возможность бузить, наблюдать, делать заметки, ощущать доброту со стороны добрых людей, ощущать, как это чудо проносится вверх по моей руке, точно сумасшедшая мышка, такова жизнь, данная мне в сорок восемь лет, и даже при том, что завтрашний день в потемках, она слаще всех сладких снов.