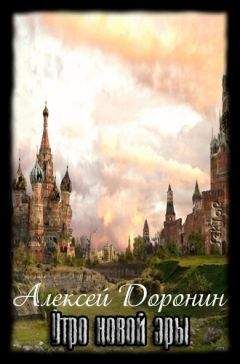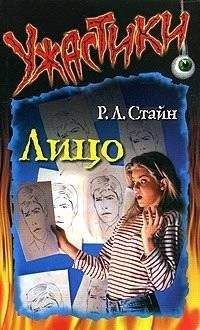Георгий Семёнов - Голубой дым
— Я и не собиралась вам отвечать. Мне только одно... Мне хотелось бы вам заметить, что я никогда не бываю, как вы сказали, тоже. Не тоже, а просто порой одиноко на душе... Что значит — тоже? Когда человек тоскует в одиночестве, какое уж там тоже. Но вот вы, хоть и наблюдали за мной... Не знаю, как это вы проделывали... Ну, не важно. Только я вам хочу сказать, что я не в том смысле, может быть, одинока, как вы думаете. У меня есть муж, и я счастлива с ним. Так что мое одиночество совсем, можно сказать, другого рода. У меня бывает приятное мне одиночество души. Я люблю пребывать в состоянии одинокости. Не всегда, конечно, но порой... Вот так. А сейчас, я вас прошу, вы не беспокойтесь, не так уж и холодно, я доберусь сама.
Он стоял перед ней, этот мучнисто-белый человек, и ждал, вслушиваясь в ее слова, продолжения, а рука его тем временем ощупывала что-то в карманах пиджака, словно бы сама по себе, без его воли... И Дина Демьяновна каким-то седьмым чувством поняла вдруг, что он ошибся, что он только что знал и рассчитывал, что у него есть деньги, а вот теперь вдруг понял, что ошибся. Она по выражению его глаз поняла, что он ужасно ошибся — денег не было с ним. И она торопливо сказала ему опять:
— Ну, я прощаюсь с вами, мне на трамвай. До свидания, заходите...
— Что ж это такое, — тихо промямлил он, все еще пытаясь найти деньги. — Нет, нет, что вы! — воскликнул он вдруг. — Я тут рядом, вон он, мой дом, в том переулке... Я забыл... Я сейчас... Или нет! Я возьму такси, отвезу вас и вернусь, а потом расплачусь с ним. Все очень просто! Вы знаете, мне ни к чему, я их и не захватил с собой.
Но в это время стремительный и напористый вагон трамвая уже мчался мимо сквера, а от него, как брызги, разлетались палые листья из-под колес и, завихряясь, возносились следом жиденьким шлейфом. Вагон пружинисто покачивался, дуга вдруг выбила искры...
— Не выдумывайте, пожалуйста, — сказала Дина Демьяновна и с облегчением кинулась бегом к остановке и, не оглянувшись на Сыпкина, успела вскочить на подножку и унестись в золотистом стеклянном свете.
А Сыпкин стоял уже под фонарем и все еще никак не мог оторваться от своих многочисленных и пустых карманов, снова и снова начиная с внутренних пиджака и кончая глубокими мешковатыми карманами стираного и неотглаженного, неказистого плаща. Он смотрел чуть в сторону и, ничего не видя перед собой, казалось, весь ушел в себя, в свои карманы, в кончики пальцев, в чувствительные подушечки, которыми он все еще рассчитывал нащупать злополучную пятерку, зная при этом, что он просто не захватил ее с собой.
— Да что же это... — шептал он ворчливо. — Что ж это такое... — и у него вырывался вдруг сквозь зубы грудной и басовитый, как собачье рычание, стон. — Ах, черт побери! «Айвенго»! «Квентин Дорвард». Ах, черт побери!
Прохожие недружелюбно поглядывали на него, а женщины обходили стороной, думая, вероятно, что человек этот очень пьян.
14
Ветры, принесшие холод, утихли, а в Москве начались наконец-то туманные, поблескивающие дождичками пасмурные деньки. Дождей-то как будто бы и не было, но мостовые и тротуары не просыхали от измороси.
Дина Демьяновна надевала теперь на голову свой мутно-голубой берет, связанный из пуха, и, забрав в него волосы, надвигала на уши и на брови. Этот берет придавал ее лицу монашескую отрешенность и бледность. Губы ее пунцовели на холоде, тонкий пух берета обметывался невесомыми крохотными капельками моросящей влаги, глаза темнели, словно бы дождевые тучки, и не было тогда женщины на свете, которая могла бы соперничать с ее странной, аскетической красотой. И она знала об этом, ловя на себе взгляды прохожих. Но не эти взгляды рождали в ней уверенность, а то высокое состояние души, в котором она пребывала все эти дни. Она почти физически ощущала свою свободу, и ей было так хорошо, так хотелось движения, смеха, разговоров, что даже чудилось, будто она до сих пор болела, а теперь вот выздоровела окончательно.
И когда в день зарплаты ей позвонил вдруг Петя Взоров, она, застигнутая врасплох, растерялась и не знала, что говорить ему и как себя вести с ним.
Он хотел увидеться, а она, получив деньги, собралась уже поехать в Столешников переулок, зайти в магазины и, быть может, что-нибудь купить. И представить себе не могла, что Петя Взоров будет требовать внимания к себе.
— Я сегодня не могу, — говорила она в трубку и, сознавая, что лжет ему, злилась на него же, словно бы он принуждал ее к этой лжи.
— Почему? — спрашивал он.
— Не могу, и все. Мне некогда, и я плохо себя чувствую. — Она щурилась в смущенной улыбке, ожидая следующего вопроса.
— Я приеду за тобой и провожу тебя.
— Не надо. Я хотела забежать в магазин.
— Забежим вместе.
Она молчала, не зная что сказать и не решаясь на последнее, на резкость и на простое нет. А он снова спрашивал:
— Ты чего хандришь? Погода?
— При чем тут погода! И вовсе я не хандрю. Ну... не хочется просто. Ты когда не хочешь, ты ведь не звонишь и не заходишь, верно? А почему я не могу?
— А куда ты собралась?
— Никуда.
— А мне хочется купить бутылку и выпить с тобой.
— Со мной?!
— Да.
— Хорошенькое дельце!
— Почему бы нет? Я бы не стал, конечно, тебя уговаривать, но все-таки... с тобой... рядом с тобой выпить и поговорить...
— О чем?
— Ну если такой вопрос, значит, нам обязательно надо увидеться и поговорить. Понимаешь? Когда ты освободишься?
Она подумала, что так будет и в самом деле лучше — встретиться и поговорить — и ответила:
— Половина седьмого я буду в Столешниковом... Я не знаю где... Давай около магазина «Меха»... Не комиссионного, а того, что выходит на Петровку.
— В половине седьмого я тебя жду у входа, — сказал Петя Взоров и положил трубку.
Он звонил с работы, и Дина Демьяновна слышала в паузах звуковой фон — голоса безымянных людей, похожие на жужжание летних шмелей и мух.
«Не было печали», — подумала она, но в половине седьмого была уже в Столешниковом и шла в толпе по мостовой, по единственной мостовой в Москве, кроме, может быть, Красной площади, где была запрещена езда автомобилей.
Крохотный мирок старой Москвы — дома с фасадами, нагруженными, как дорогие праздничные торты... Впрочем, люди, бегущие по тротуарам и мостовой, никогда не разглядывали фасады больших домов, стиснувших узкий переулок. Здесь будто бы не было высоты, не было вертикали. Здесь были витрины магазинов, приковывающие внимание, были лица людей, одежда, яркие галстуки, запахи знаменитой кондитерской, а фасады домов, образующие переулок, словно бы выпячивали свою коммерческую безвкусицу, загораживая небо, и не пускали взгляд выше модных витрин и пузатого благолепия камня.
— Это черт знает что такое, — сказал однажды Петя Взоров, разглядывая вместе с Диной Демьяновной стрельчатые и овальные арки, мощные пилястры — всю эту тучную, орнаментованную перегруженность домов. — Черт знает что! А ведь стоят и зовут сюда людей, и никто их не видит, никто не обращает на них внимания. Но сделано это, заметь, не по прихоти, а по нужде. Думаешь, для чего это пиршество на фасадах? Был такой пустячок в свое время под названием шум. А такими вот каменными подушками и кружевами боролись с децибелами. С децибелочками! Что там за шум! Лошадь процокает, дворник поругается, шаркнет метлой... Вот и ругай за безвкусицу. А теперь наоборот... Децибелы стали децибелищами, а фасады плоские, как это... как... — И, не найдя слова, он умолк с брезгливой гримасой на лице.
Дина Демьяновна не решилась ему возразить, не понимая того раздражения, с каким Петя Взоров говорил о красивых, как ей казалось, домах, в которых, наверное, хорошо было жить. Ей неприятны были его слова о безвкусице, ибо она восприняла их очень лично, словно он именно ей сказал: «У тебя не хватает вкуса».
И теперь, увидев Петю Взорова среди людей, наткнувшись взглядом на его тугую спину в непромокаемой болонье, она вспомнила брезгливую его гримасу, и ей стало противно от сознания, что он сейчас, сию минуту, обернется, увидит ее и насмешливо спросит, растягивая слова: «Вы есть мадам Простякова? Здравствуйте».
Но на этот раз он был раздражен.
— Ну ладно, — сказал он. — Мы уже здоровались по телефону. Целоваться на людях считаю делом неприличным. Давай о деле.
— О деле?
Он цепко взял ее локоть, и они пошли по мостовой, мимо стоянки автомашин с запотевшими стеклами, с блестками капель на крышах, в которых отразился свет витрин и вывесок. Дина Демьяновна впервые в жизни испытала вдруг чувство какого-то детского страха перед этим рассерженным и мрачным мужчиной. Она засмеялась и спросила:
— О каком деле?
А Петя Взоров оглядел ее и сказал наконец-то с насмешкой:
— Ты в этом берете похожа на Фантомаса.
— Ну хорошо. Давай о деле. Но о каком деле-то? Ты хочешь сказать, что тебе все надоело, что ты больше не можешь, что мы с тобой... Я знаю все, что ты мне скажешь, а если и не скажешь — подумаешь. Это еще хуже. Лучше бы сказал... Я не боюсь. Господи, почему я должна все это выслушивать! Зачем все это? Ты не знаешь? Если знаешь, объясни.