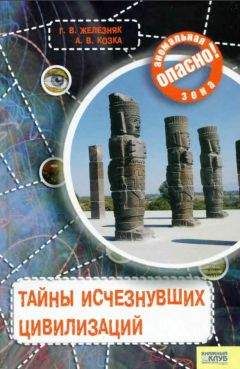Василий Яновский - Поля Елисейские
В «Круге» последний год Иванов сидел молча, с каменным лицом. Только изредка подталкивал к несдержанным рейдам нашего единственного (платонического) гитлеровца — Лазаря Кельберина… Сей последний вообразил себя, временно, помесью Паскаля с Розановым.
Вот к выкрикам Кельберина обычно тихохонько примазывался Иванов, покровительствавший ему.
Раз, придя на заседание правления «Круга», я узнал, что будет обсуждаться кандидатура нового члена — Злобина. Каким образом Иванов убедил Фондаминского и кто еще участвовал в этом заговоре, не помню; но возражать пришлось только мне, даже Федотов только брезгливо отмалчивался.
— Помилуйте, — возмущался я. — Мы не пригласили Мережковских, у которых могли бы все-таки чему-то научиться. А тут вы предлагаете кандидата со всеми пороками Мережковских, но без их заслуг…
— Вы боитесь Злобина? — победоносно спрашивал Фондаминский, зная что я отвечу. — Ну вот. Значит, пускай себе сидит и слушает. Может, даже мы на него повлияем. А Мережковские сильные противники. Кому охота теперь с ними спорить о самых элементарных началах и терять время. Только Кельберин еще соблазнится их речами да еще кое-кто. Нет, Мережковских я не хочу здесь. А Злобин не опасен.
Его настойчивость, а главное, аккуратность, с какой он начинал опять спор именно с того места, на котором давеча прервал, действовали на многих из нас парализующе, и мы уступили.
Так, в 1939 г. появился на этих собраниях заложник Мережковских — Злобин. Человек, вероятно, в большой степени ответственный за все безобразия последнего периода жизни Мережковских. Держал он себя тихо, подчеркнуто гостем, сидел на диване рядом с Ивановым, составляя некую темную фракцию; однако изредка задавал «каверзные» вопросы, например, после доклада Керенского:
— Не думаете ли вы, Александр Федорович, что Гитлер помимо эгоистических видов на Украину искренне ненавидит коммунизм и хочет его в корне уничтожить?
На что Керенский, кокетничая беспристрастием, ответил:
— Я допускаю такую возможность.
Керенский был у нас заложником исторического чуда. Несколько месяцев он возглавлял и защищал воистину демократическую Россию, тысячелетиями превшую в тисках великодержавных шалунов. Этого уже не удастся зачеркнуть!
«Верховный главнокомандующий, — насмешливо, но и с петербургским трепетом повторял Иванов. — Вы заметили, как он меня держал за пуговицу и не отпускал? Подумайте, Верховный великой державы, во время войны».
Когда, случалось, цитировали знаменитый белый стих Ходасевича: «Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа…» — Иванов неизменно объяснял:
«Это он Керенского имел в виду, других вождей народа он не знал».
Как-то раз случайная дама из правого сектора сообщила за чайным столом Мережковских, что встретила Керенского в русской лавчонке — он выбирал груши.
«Подумайте, Керенский! И еще смеет покупать груши!» — вопила она, уверенная в своей правоте.
В этот день обсуждалась тема очередного вечера «Зеленой лампы». Мережковский с обычным блеском сформулировал ее так: «Скверный анекдот с народом Богоносцем…»
К нашему удивлению правая дама, запрещавшая Керенскому есть груши, возмутилась: «Мы придем и забросаем вас тухлыми овощами, — заявила она. — А может быть, и стрелять начнем».
Но и либералы, эсеры, народники тоже запротестовали, узнав о предстоящем вечере, и пришлось уступить «общественному мнению» — из трусости.
Мережковские закончили довольно позорно свой идеологический путь. Главным виновником этого падения старичков надо считать Злобина — злого духа их дома, решавшего все практические дела и служившего единственной связью с внешним, реальным миром. Предполагаю, что это он, «завхоз», говорил им: «Так надо. Пишите, говорите, выступайте по радио, иначе не сведем концы с концами, не выживем». Восьмидесятилетнему Мережковскому, кащею бессмертному, и рыжей бабе-яге страшно было высунуть нос на улицу. А пожить со сладким и славою очень хотелось после стольких лет изгнания. «В чем дело, — уговаривал Злобин. — Вы ведь утверждали, что Маркс — Антихрист. А Гитлер борется с ним. Стало быть — он антидьявол».
Салон Мережковских напоминал старинный театр, может быть, крепостной театр. Там всяких талантов хватало с избытком, но не было целомудрия, чести, благородства. (Даже упоминать о таких вещах не следовало.)
В двадцатых годах и в начале тридцатых гостиная Мережковских была местом встречи всего зарубежного литературного мира. Причем молодых писателей там даже предпочитали маститым. Объяснялось это многими причинами. Тут и снобизм, и жажда открывать таланты, и любовь к свеженькому, и потребность обольщать учеников.
Мережковский не был, в первую очередь, писателем, оригинальным мыслителем, он утверждал себя, главным образом, как актер, может быть, гениальный актер… Стоило кому-нибудь взять чистую ноту, и Мережковский сразу подхватывал. Пригибаясь к земле, точно стремясь стать на четвереньки, ударяя маленьким кулачком по воздуху над самым столом, он начинал размазывать чужую мысль, смачно картавя, играя голосом, убежденный и убедительный, как первый любовник на сцене. Коронная роль его — это, разумеется, роль жреца или пророка.
Поводом к его очередному вдохновенному выступлению могла послужить передовица Милюкова, убийство в Halles, цитата Розанова-Гоголя или невинное замечание Гершенкрона. Мережковскому все равно, авторитеты его не смущали: он добросовестно исправлял тексты новых и древних святых и даже апостолов. Чуял издалека острую, кровоточащую, живую тему и бросался на нее, как акула, привлекаемая запахом или конвульсиями раненой жертвы. Из этой чужой мысли Дмитрий Сергеевич извлекал все возможное и даже невозможное, обгладывал, обсасывал ее косточки и торжествующе подводил блестящий итог-синтез: мастерство вампира! (Он и был похож на упыря, питающегося по ночам кровью младенцев.)
Проведя целую длинную жизнь за письменным столом, Мережковский был на редкость несамостоятелен в своем религиозно-философском сочинительстве. Популяризатор? Плагиатор? Журналист с хлестким пером?.. Возможно. Но главным образом, гениальный актер, вдохновляемый чужим текстом… и аплодисментами. И как он произносил свой монолог!.. По старой школе, играя «нутром», не всегда выучив роль и неся отсебятину, — но какую проникновенную, слезу вышибающую!
Парадоксом этого дома, где хозяйничала черная тень Злобина, была Гиппиус: единственное, оригинальное, самобытное существо там, хотя и ограниченное в своих возможностях. Она казалась умнее мужа, если под умом понимать нечто поддающееся учету и контролю. Но Мережковского несли «таинственные» силы, и он походил на отчаянно удалого наездника… Хотя порою неясно было, по чьей инициативе происходит эта бравая вольтижировка: джигит ли такой храбрый или конь с норовом?
Кто-то за столом произносит имя Виолетты Нозьер — героини криминальной хроники того периода (девица, убившая отца, с которым состояла в противоестественной связи).
— Вот, — заливается Мережковский и ударяет кулачком в такт по воздуху над столом. — Вот! От Жанны д'Арк до Виолетты Нозьер — это современная Франция.
— Ах, какой из него бы получился журналист! — не без зависти повторял Алданов, с которым я вышел оттуда. — Ах, какой журналист! Подумайте, одно заглавие чего стоит: «От Жанны д'Арк до Виолетты Нозьер».
Такими штучками — и в плане метафизическом — блистал всегда Мережковский. Но особой глубины и даже свежести, подлинной оригинальности в них как будто не оказалось. Да и правды не было, то есть всей правды. От Жанны д'Арк до Шарля де Голля — гораздо справедливее и осмысленнее. А Виолетты Нозьер были повсюду, во все времена. Но Мережковскому главное произвести эффект, сорвать под занавес рукоплескания.
Демонизм — это когда душа человека не принадлежит себе: она во власти не страстей вообще, а одной, всепоглощающей, часто тайной страсти. Думаю, что Мережковский был насквозь демоническим существом, хотя что и кто им владели в первую очередь, для меня неясно.
Собирались у Мережковских пополудни, в воскресенье, рассаживались за длинным столом, в узкой столовой. Злобин подавал чай. Звонили, Злобин отворял дверь.
Разговор чаще велся не общий. Но вдруг Дмитрий Сергеевич услышит кем-то произнесенную фразу о Христе, Андрее Белом или о лунных героях Пруста… и сразу набросится, точно хищная птица на падаль. Начнет когтить новое имя или новую тему, раскачиваясь, постукивая кулачком по воздуху и постепенно вдохновляясь, раскаляясь, импровизируя, убеждая самого себя. Закончит блестящим парадоксом: под занавес, нарядно картавя.
Люди постарше, вроде Цетлина, Алданова, Керенского, почтительно слушают, изредка не то возражают, не то задают замысловатый вопрос. Кто-нибудь из отчаянной молодежи лихо брякнет: