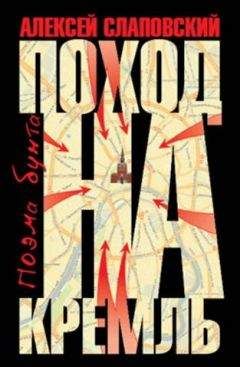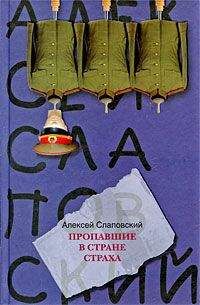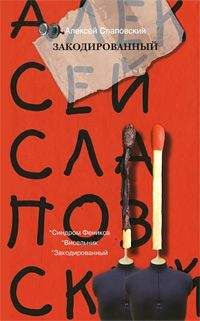Алексей Слаповский - Анкета. Общедоступный песенник
Анкета — вот это дело.
Я вспоминал об анкете — и мне неотвязно казалось, что на какой-то вопрос я ответил поспешно, не думая, меж тем он очень важен — и даже принципиально важен. Мне не терпелось прийти домой и найти этот вопрос. Что-то в нем есть даже жутковатое — но что? Этого не понять, не зная самого вопроса! Помню только — кольнуло где-то в душе, но я не обратил внимания, отвечал себе дальше, а потом носил в себе что-то неясное, смутное и мутное — и вот сейчас всплыло оно, а анкеты нет под руками, а эта бабища, пьяница, промышляющая, видимо, объявлениями, с помощью которых ловит идиотов, и они поят и кормят ее в ресторанах, эта алкоголичка дрыхнет без задних ног — и неизвестно, когда проснется. Десятый час вечера; она ведь и в ночь так наладится спать — до утра, что ж мне, тоже до утра сидеть, любуючись на ее утлое жилье и на бездыханное ее тело?
— Тамара! — громко позвал я.
Безуспешно.
Потрогал ее за плечо. Стал толкать — почти грубо. Она что-то промычала в полном беспамятстве. Тогда я стал переворачивать ее на спину. Она отмахнулась локтем, угодив мне при этом в живот. Рассердившись, придерживая одной рукой ее шальной локоть, второй рукой я стал раскачивать ее, как раскачивают лодку, — и перевернул. Она и не думала просыпаться. Бестрепетно залез я в карман ее платья — и ничего там не обнаружил. Обескураженный, застыл на некоторое время в нелепой позе, потом догадался, что ключ выпал — и стал его искать. Я увидел его между кроватью и стеной. Осторожно, перегибаясь через Тамару, я начал подбираться к ключу. Протянул пальцы, чтобы аккуратно захватить его, но тут Тамара резко повернулась, я потерял опору, рука сорвалась, ключ стукнулся об пол под кроватью, а я упал на Тамару.
Она взвизгнула (а вернее сказать: как-то взрычала спросонья низким голосом), открыла глаза. Долго смотрела на меня — глазами уже не столь пьяными — и вдруг заулыбалась и сладко пропела:
— Славочка! Родной мой!
И тут же выражение умильности сменилось у нее выражением томления.
— Наконец-то! — сказала она и, извиваясь, стащила с себя платье. Я хотел встать — и не успел. Она поймала меня за руки и притянула к себе, прижала мою голову к своей груди, обнажая при этом грудь, успевая теребить мою одежду с необычайной силой, тянуть, терзать — того и гляди порвет.
Что я подумал?
Я подумал, что давно пора мне изменить Алексине, чтобы окончательно освободиться от наваждения. Изменить — все равно как, все равно с кем. И это, сознаю я теперь, была мысль не в тот момент рожденная, она давно во мне жила. Я просто не искал возможности — в силу непривычки к таким поискам и потому еще… Да мало ли причин!
Тамара сноровисто обнажила себя, не открывая глаз. Я не разглядывал ее (и радовался сумеркам), боясь обнаружить что-то, что меня охладит, отпугнет — я слишком, нужно сказать, взыскателен в отношении человеческого тела, слишком исхожу из идеала, поэтому-то и в себе не уверен: собственное телостроение меня, увы, не радует, хотя оно и не уродливо. Обычно. Заурядно. Итак, закрыв, как и Тамара, глаза, я начал раздеваться.
— Скорей, скорей, — шептала она, и ее голос, совсем не пьяный, а даже чистый, ясный, преисполненный желания и радостной тоски, стал казаться мне голосом непреодолимого греха, я удивился и обрадовался, ощутив в себе (и сугубо физически в том числе) эту самую непреодолимость, нетерпение.
Я был готов. Я стал шевелить ее тело, приводя необходимые части его в соответствующее положение готовности, — но слишком податливо оно показалось, каким-то неживым показалось. И какие-то звуки послышались. Я открыл глаза. Тамара, приоткрыв рот, тихонько похрапывала. Спала.
Я встал, оделся.
Заглянул под кровать. Она — низкая, не подлезешь. Стал искать какую-нибудь швабру, палку, длинный предмет, — ничего не нашел. Оставалось одно — отодвинуть кровать от стены вместе со спящей женщиной. Я попытался это сделать — тщетно. Неровные доски пола не давали ножкам хода, а приподнять кровать я не смог.
Раздосадованный и даже почти злой, я подошел к двери. Дверь крепкая, массивная, не то что в современных квартирах — не вышибешь, не выломаешь. Я подошел к окну, открыл его. Окно выходило во двор, под ним была труба — видимо, газовая, она загибалась к первому этажу вдоль стены, меж окон. Другого выхода нет. Я перелез через подоконник, осторожно прошел по трубе до загиба, потом, цепляясь за карниз, за выступающие кирпичи рельефной старинной кладки, спустился, сполз по трубе на землю. Осмотрел с грустью испачканный свой костюм и отправился домой, на ходу придумывая, как объяснить Надежде мой замызганный вид и алкогольный запах, от которого она давно уже отвыкла…
В первом часу ночи, мокрый после ванны, я сел за анкету и стал вчитываться в те вопросы, на которые уже ответил — и ничего не обнаружил. А чувство сосущей тревоги какой-то, схожее с ощущением человека, который мучительно вспоминает что-то очень важное, осталось. Может, этот вопрос — дальше, среди тех, которые я просматривал, еще не отвечая?
Нет, и там нет.
Но не на пустом же месте, не ветром же в голову занесло мне эту тревогу!
Ничего. Не надо волноваться. Никуда не денется этот вопрос (если он вообще есть, а не мираж моего воспаленного воображения!). Будем отвечать по порядку.
52. БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ВАМ ХОЧЕТСЯ УМЕРЕТЬ. Неверно.
53. ВЫ БОИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОЖОМ ИЛИ ДРУГИМИ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.
Неверно. (Я даже и не думал никогда об этом. На всякий случай, чтобы проверить себя, пошел на кухню, взял большой острый нож — Надежда любит, чтобы ножи всегда были остро заточены и я привык следить за этим, — повертел его в руках, порезал — уж заодно — капусту, чтобы потушить к завтрашнему дню, вслушиваясь в свои ощущения. Нет, нельзя сказать, что совсем не боюсь ножа. Пожалуй, хищная острота его и та легкость, с которой он врезается в плоть кочана — и, значит, еще легче в плоть живую, — все это как-то смутно приманчиво, притягательно — но откуда? Ни тяги к членовредительству, ни, тем более, суицидных позывов у меня никогда не было! Или я плохо себя знаю? В результате, задумавшись, я чуть не порезал себе палец и бросил нож, не кончив разделку капусты, и ушел из кухни, мысленно сказав себе, что все это ерунда, просто я навнушал себе черт знает что…)
54. ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО У ВАС ЧТО-ТО НЕ В ПОРЯДКЕ С ГОЛОВОЙ.
Имеется в виду не голова, конечно, а общая психика. Я нормален. По мнению Алексины — даже слишком. Я всегда был нормален. Почему же не ответил автоматически — Неверно? Или по состоянию на текущий момент засомневался — в порядке ли, действительно, голова? Ведь не было у меня раньше этого, постоянно ощущаемого, беспокойства. И даже не беспокойства… Если применить образность, это похоже на то, как если бы человек в темноте или с завязанными глазами брел наугад в неизвестной местности с гнетущим ожиданием, что сейчас на что-то наткнется — на дерево, стену, столб — или вообще что-то неведомое, жуткое — или даже упадет в пропасть.
Зачем я запутываю и запугиваю себя? Все у меня порядке с головой. Дважды два — четыре, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, Земля — круглая, я — вполне нормален. Неверно.
55… 56… 57… 58…
Несущественные утверждения, мелочи, слишком много мелочей.
61. ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ БЫ РАБОТА ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ.
64. ВЫ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ В ЛЮБВИ.
75. У ВАС ХОРОШИЙ АППЕТИТ.
… Я редко засиживаюсь по ночам, я — человек упорядоченного быта. С удивлением увидел я, что уже светает. Распахнул окно, вдохнул утренний воздух — хотелось бы сказать, что свежий, но, увы, именно по утрам я, вообще чуткий к запахам, отчетливо ощущаю, как на город опустился отстоявшийся за ночь дым заводов и бензиновый перегар.
Зато тишина — чистая и полная.
А вот первые птицы запели, загомонили, зачирикали, защелкали — в пять минут ожила их многоголосица, но и это — тишина. Поезд прошел — и, казалось бы, должен громыхать громче, чем днем, но нет, в тишине перестук колес тоже словно тише, мягче. Первый трамвай тяжело завизжал вдалеке на повороте, первый троллейбус просвистел где-то особенным одиноким звуком, — и это тишина.
Но вот из-за стены послышался кашель и глухой голос больного старика соседа — и тишина кончилась. Потому что я уже — не один. А тишина, это когда человек один — какие бы звуки материального мира ни возникали окрест. Тишины для всех — нет.
Еще в воскресенье, отправляясь на свидание с Тамарой, я позвонил из автомата тем двум женщинам, что дали свои телефоны. Одна (каким-то совсем юным голосом) предложила встретиться ровно через неделю, но я попросил раньше — думая о вполне вероятном переезде к Ларисе. Она тут же перенесла срок встречи сразу на понедельник, что меня весьма удивило. Вторая сказала, что в выходные она занята, а в рабочие дни работает, а вечерами не имеет возможности, поэтому готова встретиться в любой день во время обеденного перерыва. Я наугад назвал вторник.