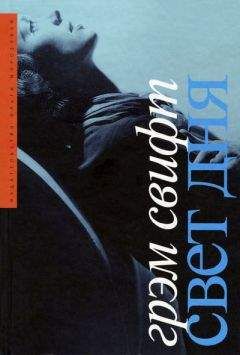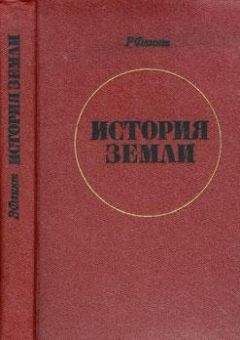Грэм Свифт - Земля воды
Однажды, очень много лет тому назад, жила-была будущая жена учителя истории, которая сказала будущему учителю истории, что они больше никогда не увидят друг друга, а три года спустя вышла за него замуж. И будущий учитель истории увез ее с собой, в 1947 году, из родных кембриджширских Фенов в Лондон. Хотя не раньше, чем потоп, вызванный половодьем, затопил весной того же года большую часть этих самых Фенов. И не раньше, чем этот самый потоп – из-за которого Хенри Крик, продолжавший упорно и добросовестно, ютясь в полузатопленном доме, выполнять обязанности смотрителя, подхватил крупозное воспаление легких, – не раньше, чем потоп принес с собою смерть отца будущего учителя истории.
Но это уже совсем другая история…
Они переезжают в Лондон. Он становится учителем. А она, просуществовав несколько лет просто как жена учителя истории (провожая его, что ни утро, в школу – отсюда неизбежность иронии, шарад из области «мать—сын»), находит себе работу в местном правительственном учреждении по вопросам заботы о престарелых – ни разу так и не объяснив причин сделанного ею выбора.
Живут они в Гринвиче, лондонском пригороде с богатым историческим наследием: Королевская Обсерватория; парк, где охотился когда-то Генрих VIII; бывший дворец, а ныне Морской музей; не говоря уже о поставленной на вечный прикол «Катти Сарк», чей бушприт неизменно указывает в сторону Острова Псов. Он преподает в классической гимназии (в 1966 году ее переносят и расширяют и делают из нее общеобразовательную школу) в Чарлтоне. Она работает в муниципальном центре, в Льюишеме.
Они приобретают постоянные привычки и разнообразят их лишенными крайностей вариациями. Воскресные прогулки в парке (до Обсерватории и обратно). Обмен визитами с его (учителя) и ее (соцработники) коллегами. Странное равновесие, существующее между их сферами деятельности – он занимается детьми, она стариками, – служит во время этих дружеских вечеринок (интересно, как сама эта пара реагирует на подобного рода юмор?) стандартным поводом для шуток. (А куда подевалась середина жизни?) Регулярные, примерно раз в полтора месяца, поездки к ее отцу (который не бросит свою ферму и слышать не желает всей этой чепухи насчет каталажек для старичья) в Кембриджшир. Дни рождения и годовщины свадьбы отмечаются в ресторане. Выходы в театр. Экскурсии по выходным. Отпуска: он, блюдя честь мундира, предпочитает исторические места; она нелюбопытна.
Не будучи обременены детьми – и унаследовав в 1969 году часть денег, вырученных от продажи фенлендской фермы, – они не испытывают недостатка в деньгах, более того, они живут с комфортом, пожалуй, даже и неподобающим: «завидный гринвичский особнячок» (эпоха Регентства, портик у парадной двери), из которого в известного рода газетных репортажах сделают целое дело.
Они приобретают постоянные привычки и развлекаются тоже привычно. Настолько, что три десятилетия проходят без особых вех, и не успеешь оглянуться, а им обоим уже за пятьдесят: он – заведующий отделением, отказавшийся в свое время от директорского поста; она уже успела принять очередное решение; в силу причин, ничуть не более ясных, чем те, что заставили ее когда-то устроиться на работу, оставила своих стариков. И когда они гуляют теперь по воскресеньям в парке (прогулки, во время которых – обратите внимание – ежели им случается искать друг у друга опоры, скорее он опирается на нее, нежели наоборот), к ним присоединяется третий участник – золотой ретривер по имени Падди. Он скачет вокруг них, он ластится, время от времени заставляет их улыбнуться или произнести пару слов – одобрение, команду. Золотой ретривер, которого она купила ему в подарок, на пятьдесят два года, и официальный повод был (кишечные колики) – необходимость более подвижного образа жизни как профилактика старения. Но если – хотя бы вскользь – принять во внимание тот факт, что жена решила бросить работу в то самое время, когда у нее начался поздний и оттого довольно болезненный климакс, объяснение подарку можно подыскать совсем другое…
Они прогуливаются не спеша по аллее у Обсерватории, на негреющем январском солнышке, и за ними плетется Падди, припадая, что ни куст, на все четыре. Глаза прищурены, свет слишком ярок; морозный воздух славно холодит тяжелые – воскресенье, утро – головы. Потому что в субботу вечером был званый ужин у Скоттов, Ребекки и Льюиса.
Льюис, всегда с бутылкой наготове; суетится одетая во что-то светло-вишневое миссис Скотт; младшие Скотты (никак не получается заснуть; взрослые тут разгалделись внизу) вдруг выставляются, как на параде, напоказ в гостиной, одетые в пижамы и ночнушки, застенчивые улыбочки и две-три совершенно неуместные выходки, их, как мух поганых, гонят скопом обратно в постель; за кофе с коньяком нелепая тема противоядерных бомбоубежищ…
И все это, с его точки зрения – хотя она ему и говорит, что у него паранойя, пока они едут к Скоттам, – часть филистерского по сути своей заговора. Просто, чтобы его хоть как-нибудь умаслить. (Когда это Льюис в последний раз приглашал Криков на ужин?)
До него уже дошел слух («Твое здоровье, Том»):
Историческое отделение подлежит…
Шарфы и перчатки. Посеребренный асфальт под ногами. Выдох срывается с губ паровозным дымком. Они идут молча – ужин у Скоттов расчленен и расчислен, – каждый погружен в свои дымчато-непрозрачные мысли. Падди тактично держится поодаль.
Она говорит словами, которые уже вертелись у него на языке.
«Что случилось?»
«А – я просто думал об одном из моих детишек. Такой, знаешь, нарушитель спокойствия. По фамилии Прайс».
Она улыбается, она готова сменить тему.
«Расскажи мне о нем».
И он рассказывает ей о Прайсе. Это его заявление в классе: история дошла до точки. Учитель импровизирует теорию: Прайс как будущий революционер. Как всякий наделенный беспокойным умом молодой человек, Прайс хочет переделать мир. Однако Прайс знает, что старые, настоящие революции кончились. Все, проехали. Отсюда его парадоксальная выходка на уроке по Французской революции. О чем мы говорим, какие революции, когда история подходит к…? Разочарованный революционер становится реакционным радикалом: Прайс не хочет менять мир, он хочет…
«Спасти его?» Ее слова еще раз опережают его слова.
Она берет его за локоть, мягкое пожатие. (Они гуляют так просто, так привычно, в старом парке – и так близки друг другу – в последний раз.)
«Но я не о том. Я хотела сказать – расскажи мне О нем».
«О Прайсе? Шестнадцать лет. Кудрявый. Костлявый. Такой вид, будто его не кормят – или выгнали из дому. И при этом ворчун. Нет, ты не так поняла, дом у него, конечно, есть. Я его как-то спросил: „Как дела дома?“ А он в ответ: „Им хорошо“. И он еще чем-то мажется – не спрашивай меня почему, – чем-то вроде грязно-белого грима…»
Он путается, ему, похоже, нужно выговориться об этой неполовозрелой занозе в своей учительской плоти.
«Он, в общем-то, отнюдь не дурак. Мне кажется, он в чем-то меня обвиняет. В том, что история… Он – симпатичный, в общем… Мне кажется, он чем-то напуган».
Она слушает, задает вопросы. Дымком отлетает дыхание. Живые глаза. Морозный воздух.
«Как-то не в твоих это правилах – принимать ученика близко к сердцу».
И не в правилах Мэри – быть любопытной.
Давным-давно жили-были будущий учитель истории и будущая жена учителя истории, у которых все пошло наперекосяк, а потому – поскольку прошлого с рук не сбудешь, поскольку никак не быть не может – им и пришлось обходиться тем, что под рукой.
А под рукой было прошлое, и он, ничтоже сумняшеся, сделал из него себе профессию, из предмета, которого не вырвать с корнем, который копит силы и объем и посягает на новые сферы – лучшей иллюстрацией в данном случае могут служить растущие с каждым годом шеренги книг, которые заполонили комнату во втором этаже гринвичского дома, из которой учитель истории решил устроить себе кабинет, и расползлись понемногу на лестничную площадку и на стену вдоль лестницы. Он стал зарабатывать себе на жизнь – труд всей жизни – прошлым и оправдывать себя детьми, которым он, что ни день, преподносил уроки прошлого. История как напутственный подарок – громоздкий, но небесполезный, – чтобы каждый захватил его с собой в будущее. И таким образом, учитель истории – хотя в его отношении к питомцам явственно проскальзывают сперва отцовские, а потом и дедовские черты, хотя он все реже видит (но не желает этого признавать) в этих лицах образ будущего и все чаще и чаще что-то такое, что он когда-то потерял, а теперь пытается вернуть – всегда имеет право сказать (последнее время он склонен к парадоксам): он смотрит вспять, чтобы лучше было видно то, что впереди.
А вот у нее (ему так казалось) под рукой и вовсе ничего не оказалось. Не веря, не желая смотреть ни вспять, ни вперед, она училась вести счет времени. Чтобы, по ту сторону шатких временных опор их брака, ей было что противопоставить пустому пространству реальности. Так, чтобы в отличие от него, который никак не мог обойтись без уроков истории и без школьников, она могла в любой момент расстаться со своими Стариками – примите во внимание это добровольное и ни-шагу-в-сторону решение. И пусть он каждый день мчался в школу, он возвращался всегда к одной и той же вполне взрослой женщине, которая в вопросах о том, чему быть и чему не бывать (по крайней мере, ему так казалось), была сильнее его – и которая была ему нужней, как выяснилось впоследствии, когда дело дошло до дела, чем всяческая мудрость и утешение истории.