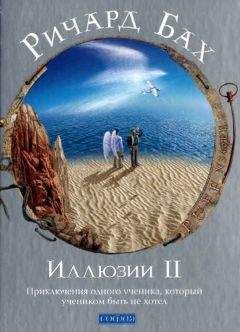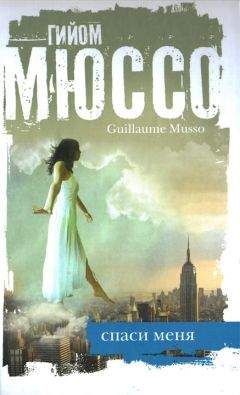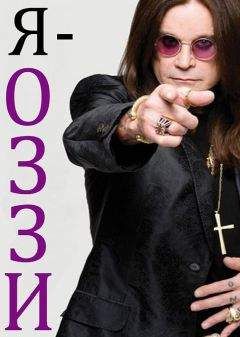Татьяна Толстая - Река (сборник)
Но лучшее, что разрешено видеть во сне пишущему человеку — а таковыми можно считать почти всех, — это упоительные, самые гениальные на свете тексты. Стихи — куда там Пушкину! Правда, проснувшись, понимаешь, что, может быть, все-таки Пушкин обставил тебя и на этот раз… Так, одной знакомой даме удалось проснуться среди ночи и торопливо записать свой шедевр:
Он.
На груди висит вагон.
Оп.
На вагоне медный клоп.
А другому человеку приснили такое:
Летает птичка на рассвете,
Чем дальше в лес — тем больше дров.
Осталась я одна на свете,
Так будь здоров, так будь здоров…
Там, на родине Зверотура, это, наверно, так же грандиозно, как «эники-беники ели вареники», это у них такой Шекспир. Я тоже как-то занималась столоверчением, вызвала дух одного поэта и спросила его, пишет ли он там стихи. «Пишу». — «На каком языке?» — «На ангельском». Ну, значит, нам не прочесть.
Я вот не пишу стихов, да и не претендую; мне снится проза. Такая!.. Такая!.. О, какая! Это такие потрясающие тексты, в которых каждая буква, а не то чтобы слово, стоит на нужном месте и произносить ее, проговаривать вслух — высшее наслаждение для наконец-то дорвавшегося до своей пищи духа. Все прочее — макулатура! Мне дают — нет, меня подпускают к Большой Белой Книге in folio, покрытой черными строчками бесконечного текста. Книга старинная, буквы крупные, может быть рукописные. В каждом слове — Высший Смысл, оказавшийся таким простым для понимания, что от счастья начинаешь смеяться. Смеешься и читаешь, смеешься и читаешь. И тут, как всегда, все начинает портиться, я просыпаюсь — меня изгоняют из рая, сила тупого утра выталкивает меня на поверхность, Высший Смысл закрывается, абракадабрируется и белибердизуется, и горсточка вырванных у сна запомнившихся слов бессмысленна, как клавиатура пишущей машинки: фывапролджэ, кто ж ее, родимую, не знает.
Смирись, бодрствующий; смирись и спящий: тайна сия велика есть, Большую Белую Книгу навынос не выдают, но главное — она есть; вот это главное. Я видела ее сама. А нам — что ж, нам разрешено тут, по эту сторону ограды, стараться кто как умеет, нам дали чистые листы бумаги, и мы, может быть, сами того не подозревая, напишем иной раз такое ячсмитьбюё, что Сценарист в восторге вклеит и нашу страничку в свое избранное, чтобы было что почитать ангелам в гамаках.
Чужие сны
Петербург строился не для нас. Не для меня. Мы все там чужие: и мужчины, и женщины, и надменное начальство в карете ли, в «Мерседесе» ли, наивно думающее, что ему хоть что-нибудь здесь принадлежит, и простой пешеход, всегда облитый водою из-под начальственных колес, закиданный комьями желтого снега из-под копыт административного рысака. В Петербурге ты всегда облит и закидан — погода такая. Недаром раз в год, чтобы ты не забывался, сама река легко и гневно выходит из берегов и показывает тебе кузькину мать.
Некогда Петр Великий съездил в Амстердам, постоял на деревянных мостикахнад серой рябью каналов, вдохнул запах гниющих свай, рыбьей чешуи, водяного холода. Стеклянные, выпуклые глаза вобрали желтый негаснущий свет морского заката, мокрый цвет баркасов, шелковую зеленую гниль, живущую на досках, над краем воды. И ослепли.
С тех пор он видел сны. Вода и ее переменчивый цвет, ее обманные облики вошли в его сны и притворялись небесным городом, — золото на голубом, зеленое на черном. Водяные улицы — зыбкие, как и полагается; водяные стены, водяные шпили, водяные купола. На улицах — водянистые, голубоватые лица жителей. Царь построил город своего сна, а потом умер, по слухам, от водянки; по другим же слухам, простудился, спасая тонущих рыбаков.
Он-то умер, а город-то остался, и вот жить нам теперь в чужом сне.
Сны сродни литературе. У них, конечно, общий источник, а кроме того, они порождают друг друга, наслаиваются, сонное повествование перепутывается с литературным, и все, кто писал о Петербурге, — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок, — развесили свои сны по всему городу, как тонкую моросящую паутину, сетчатые дождевые покрывала. От бушующих волн Медного всадника и зелено-бледных пушкинских небес до блоковской желтой зари и болотной нежити — город все тот же, — сырой, торжественный, бедный, не по-человечески прекрасный, не по-людски страшненький, неприспособленный для простой человеческой жизни.
Я непременно куплю в Питере квартиру: я не хочу простой человеческой жизни. Я хочу сложных снов, а они в Питере сами родятся из морского ветра и сырости. Я хочу жить на высоком этаже, может быть, в четвертом дворе с видом на дальние крыши из окна-бойницы. Дальние крыши будут казаться не такими ржавыми, какие они на самом деле, и прорехи покажутся таинственными тенями. Вблизи все будет, конечно, другое, потрепанное: загнутые ветром кровельные листы, осыпавшаяся до красного кирпича штукатурка, деревце, выросшее на заброшенном балконе, да и сам балкон с выставленными и непригодившимися, пересохшими до дровяного статусалыжами, с трехлитровыми банками и тряпкой, некогда бывшей чем-то даже кокетливым.
Особенно хочется дождаться в питерской квартире поздней осени, когда на улице будет совершенно непереносимо: серые многослойные тучи, как ватник водопроводчика, сырость, пробирающая до костей, секущий, холодный ингерманландский дождь, длинные лужи, глинистые скверы с пьяными. Потом ранняя, быстрая тьма, мотающиеся тени деревьев, лиловатый, словно в мертвецкой, свет фонарей и опасный мрак подворотен: второй двор, третий двор, ужасный четвертый двор, только не оглядываться.
Да, и еще длинные боковые улицы без магазинов, без витрин с их ложным, будто бы домашним уютом. Слепые темные тротуары, где-то сбоку простроченные шумящими, мокрыми, невидимыми деревьями, только в конце, далеко, в створе улицы — блеск трамвайного рельса под жидким, красным огнем ночного ненужного винного бара.
Кто не бежал, прижав уши, по такой страшной бронхитной погоде, кто не промокал до позвоночника, кто не путался парадных и подворотен, тот не оценит животное, кухонное, батарейное тепло человеческого жилища. Кто не слышал, как смерть дует в спину, не обрадуется радостям очага. Так что, если драгоценное чувство живой жизни притупилось, надо ехать в Питер в октябре. Если повезет, а везет почти всегда, — уедешь оттуда полуживой. Для умерщвления плоти хорош также ноябрь с мокрым, ежеминутно меняющим направление снеговым ветром, а если не сложилась осенняя поездка — отлично подойдет и март. В марте лед на реках уже не крепок, не выдержит и собаки, весь покрыт полыньями, проталинами, синяками, но дует с него чем-то таким страшным, что обдирает лицо докрасна за шестьдесят секунд, руки — за десять.
Непременно, непременно куплю себе квартиру в Питере, слеплю себе гнездо из пуха, слюны, разбитых скорлупок своих прежних жизней, построю хижину из палочек, как второй поросенок, Нуф-Нуф. Натаскаю туда всякой домашней дряни, чашек и занавесок, горшков с белыми флоксами, сяду к окну и буду смотреть чужие сны. Окон в Питере никогда никто не моет. Почему — непонятно. Впервые я обратила на это внимание в конце восьмидесятых годов, когда началась перестройка. Ясно, что тогда телевизор было смотреть интереснее, чем выглядывать в окно: кого еще сняли?., что еще разрешили?.. Потом интерес к политике угас, все сели, как завороженные, смотреть мыльные оперы, так что тут тоже стало не до ведер с мыльной водой. Потом жизнь поехала в сторону полного разорения, денег не стало, потолки осыпались на скатерти, а обои свернулись в ленты, и мыть окна стало как-то совсем неуместно. Кроме того, Питеру всегда была свойственна некоторая надменность, горькое презрение к властям всех уровней, от жэка до государя императора: если «они» полагают, что со мной можно так обращаться, то вот вам, милостивый государь, мое немытое окно, получите-с. Но возможны и другие объяснения: нежелание смотреть чужие сны, смутный протест против того, что куда ни повернись — всюду натыкаешься глазом на чужое, на неродное, на построенное не для нас. Или, потеряв статус столицы, Питер опустился, как дряхлеющая красавица? Или в ожидании белых, томительных ночей, выпивающих душу, жители копят пыль на стеклах, чтобы темней было спать? Или же это особое питерское безумие, легкое, нестрашное, но упорное, как бормотание во сне? Когда я осторожно спросила свою питерскую подругу, почему она не моет окон, она помолчала, посмотрела на меня странным взглядом и туманно ответила: «Да у меня вообще ванна в кухне…»
Эта была правда, ванна стояла посреди огромной холодной кухни, ничем не занаве-шанная, но в рабочем состоянии, при этом в квартире — естественно, коммунальной, — жило двенадцать человек, и, по слухам, мылись в этой ванной, не знаю уж как. И, наверно, это было как во сне, когда вдруг обнаруживаешь, что ты голый посреди толпы, и этого никак не поправить по каким-то сложным, запутанным причинам.