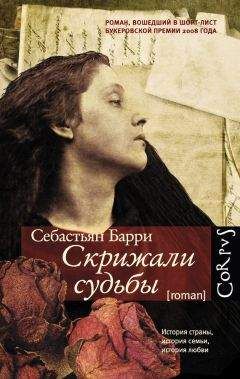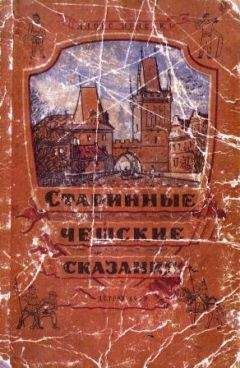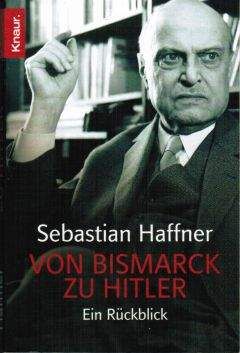Время старого бога - Барри Себастьян
— Мать у меня была настоящая красавица. — Голос ровный, ни намека на прежнюю печаль. Быстро же он взял себя в руки.
— А переезжать вы так и не стали? — спросил О’Кейси.
— Нет, остались в Монкстауне[3]. Так и остались в Монкстауне.
Уилсон не стал уточнять, правильный ли сделали они выбор. Том чуть было не спросил, жив ли его отец, но одернул себя. Зачем ему это знать? Незачем. Сестра, наверное, замужем. Дай бог, все у нее хорошо. С чего он вдруг о ней думает? Он же ничего о ней не знает. Была у нее красавица-мать, умерла. И сестра, должно быть, тоже красавица. Скорее всего. Ему представилась мать в легком летнем платье, загорелая, но бесплотная, словно призрак. Что ж, теперь она и есть призрак. Том кашлянул и чуть не задохнулся, словно в наказание за недостойные мысли. Он засмеялся, и гости подхватили. И снова все замолчали. Том не знал, за что взяться. Еще чаю им предложить? Или гренки с сыром? Нет, ни к чему. А может, стоило бы? В холодильнике, кажется, завалялось несколько ломтиков бекона. И куриное рагу осталось со вторника, почти наверняка осталось.
Теперь-то они расскажут, что их сюда привело. Причин может быть тысяча, длинный список беззаконий. Том осел в кресле, машинально поднес к губам чашку — чай совсем остыл. Ах, да. Он кивнул Уилсону в знак, что обдумывает его слова. Он и в самом деле обдумывал. Что значит остаться без матери. Это способно убить, но ты должен жить дальше. От лица Уилсона исходило сияние, как будто он в шаге от великой мудрости и его слова сейчас прояснят все, освободят слушателей. Том наблюдал за ним бесстрастным взглядом, усвоенным за годы работы — так объект ни за что не заметит, что за ним следят. Как следователь он всегда ждал, не сболтнет ли чего собеседник. Во время изнуряющего допроса, когда подозреваемый устанет и начнет падать духом, когда в мозгу его или в сердце забьется чувство вины, тут-то и надо прислушиваться: оговорки, вскользь брошенные фразы — все может, как ни странно, сыграть на руку. Все это дверцы, лазейки к признанию, которое чем дальше, тем желанней. Желанней для виновного, притом что признание станет всего лишь началом его бед. Да! А следователь, тот жаждет добиться признания — до боли, чуть ли не до разрыва сердца.
Но Уилсон молчал, прямо-таки пылал молчанием, точно свечка тихим огоньком.
— Ну, в Монкстауне ничуть не хуже, — заметил О’Кейси.
— У моей жены тоже мать умерла молодой, — вставил Том задумчиво. — Да и… да и моя тоже — пожалуй. — Он внезапно смутился, потому что на самом деле не знал, только подозревал, даже по-своему надеялся. — Да-да, тяжело это очень.
— Видит Бог, еще как тяжело, — кивнул Уилсон. — Значит, так, мистер Кеттл…
— Том.
Три призрака матерей — или только два? — зависли на миг меж ними в воздухе.
— Том, значит, в кармане у меня отчеты. — Он достал из кармана пальто длинный узкий конверт, для официального документа слишком уж замусоленный, и уставился на грязно-бурую бумагу, словно в задумчивости разговаривал сам с собой. Том заметил, как он шевелит губами, точно шепчет ответы на исповеди. Уилсон заерзал на жестком стуле, как будто готовясь к атаке, собираясь с силами, но без особого успеха. О’Кейси, тощий, невозмутимый, сидел в неудобной позе, слишком далеко отставив левую ногу, и вид был у него смущенный, словно ему неловко за товарища. По этим мелочам заметно было, что он моложе Уилсона, хоть и ненамного.
— Мне даже стыдно эти отчеты вам показывать, — признался Уилсон. — Стыдно. Грязное это дело.
И тут сердце Тома ухает в пятки. Прямиком в тапочки. Лучше бы он переобулся в ботинки, когда шел открывать дверь — а он не сообразил, и вид у него теперь — пенсионер пенсионером. Что у него с брюками? Он опустил взгляд на свои любимые коричневые штаны — не мешало бы их простирнуть в прачечной самообслуживания. Старая клетчатая рубашка, жилет со следами ужинов за последние недели. Зато он хотя бы недавно подстригся в парикмахерской, а это уже кое-что, и брился он исправно каждое утро. За бритьем он, по обычаю, напевал “Долог путь до Типперэри”, а обычаи для него — святое, если они его личные и хоть чуточку в ирландском духе.
Уилсон достал из потрепанного конверта отчеты и протянул Тому. Том уставился на неопрятную стопку — все было ему слишком хорошо знакомо: и пожелтевшая бумага, и отпечатанные страницы, и фотокопии, и чьи-то пространные показания, написанные от руки мрачными черными чернилами. Бюрократия, бич полицейских. У него не было желания брать эти документы в руки, ни малейшего. Конечно, так мяться, как он — это невежливо. Они же совсем мальчишки. Уилсону сорок от силы. Лицо уже потрепанное, над левой бровью небольшой шрам. Может быть, в детстве поранился. У всех у нас есть шрамы с детства, подумал Том.
Уилсон слегка тряхнул стопку в руке, словно приглашая Тома впрячься в этот чертов хомут.
— По правде сказать, мы тут можем повлиять на исход — для этих молодчиков игра окончена.
Тому Кеттлу до смерти хотелось их выпроводить. Не в том дело, что они ему не нравились — наоборот. К ночи разгулялся ветер, слышно было, как он воет за стеной. Только бы не было дождя. У ребят на двоих ни одного зонта. Или они приехали из города на полицейской машине? Дай то Бог. Или им не положено по рангу? Скорее, они добрались поездом от Уэстленд-роу до Долки[4] и еще пару миль прошли пешком до замка. Может быть, мечтают пропустить по кружке пива в гостинице “Остров Долки”. По таким делам, как у них, ближе к ночи не ходят. Может статься, они и вовсе здесь по своему почину, на свой страх и риск. Но они же сказали — Флеминг им поручил. Не пора ли им по домам? Или Флеминг хотел все сделать неофициально? Двое полицейских в темной штатской одежде, и даже издали видно, что не штатские. На ходу примечают богатые дома, задумываются о том, какими путями это богатство приобретено — наверняка преступными. Шагают по узкой опрятной тропке мимо роскошных особняков. Беседуют, а может, молча пробираются вперед. Понимают ли они, какое это счастье, быть молодыми? Вряд ли. И никто не понимает, покуда не станет поздно. Мысль эта отозвалась у него в душе странным чувством, даже слезы на глаза навернулись, ей-богу. Хорошо, если никто не заметил. Чувство это скользнуло в сердце плавно, словно выдра в ручей. Внезапное участие к этим парням, суровым, закаленным, не знающим сомнений. Они четко различают, где добро, а где зло. Ловят преступников, выбивают признания любой ценой. Возвращаются домой к женам и детям. И думают, что жить будут вечно. И во всем-то у них порядок. А в конце — пустота, пустота. Тупик. То есть нет, это у него, дурака, так вышло. Он ее любил всей душой, любил как умел. Кто вообще пойдет замуж за полицейского? И все же отчего-то щемит сердце при взгляде на них — на этих ребят, таких славных, бесшабашных, в “нештатском” штатском. Но все-таки скорей бы они ушли, оставили его в покое. Девять месяцев; столько же времени нужно, чтобы выносить ребенка. Никогда в жизни он не был так счастлив. Господи, скорей бы — скорей бы эти двое встали, вежливо простились — а он бы даже уговаривал их посидеть еще, — ступили бы на гравиевую дорожку, предмет забот мистера Томелти, и только их и видели.
— Даже не знаю, считалось ли это в ваши времена преступлением, — заметил О’Кейси — судя по всему, знаток законов, гений кодексов.
Взгляд его словно говорил: спросите у меня что угодно, любой закон, любую статью. Ну же, я жду. Непрошеные слезы Тома ушли, уступив место восхищению. Интеллект — штука притягательная. Свет разума. Он готов был рассмеяться в голос, но ни за что бы не дал себе воли, ни за что. Всплыла в памяти одна история об Уилсоне — помнится, тот избил до полусмерти подозреваемого. Хуже, чем избили шефа, намного хуже. Кажется, его отправили на границу с Ольстером во главе спецотряда. А теперь он, значит, вернулся, Уилсон. Или он что-то путает? Слишком долго прожил в одиночестве?
— Насколько я знаю, не считалось, — добавил О’Кейси.
— Что именно? — нехотя переспросил Том.
— Мы знаем, что вы в шестидесятых от священников здорово натерпелись. То есть, в те времена, когда…