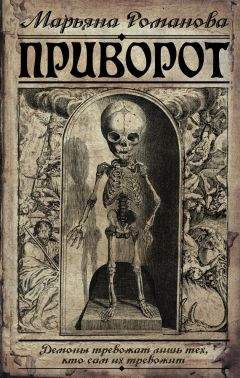Что видно отсюда - Леки Марьяна
— Проволочный завод, — говорил он ровно в тот момент, когда мы проезжали мимо проволочного завода. — А теперь поле. Выгон. Хутор сумасшедшего Хасселя. Луг. Лес. Лес. Охотничья вышка номер один. Поле. Луг. Лес. Выгон, выгон. Шинная фабрика. Деревня. Выгон. Поле. Охотничья вышка номер два. Лесной участок. Подворье. Поле. Лес. Охотничья вышка номер три. Деревня.
Поначалу Мартин еще ошибался, он говорил «луг», когда там было поле, или недостаточно быстро угадывал ландшафт, когда поезд посередине пути ускорялся. Но скоро он верно называл уже все точки и говорил «поле», когда я видела поле, и говорил «крестьянский двор», когда мы проносились мимо крестьянского двора.
Теперь, в четвертом классе, Мартин мог назвать все безошибочно, с правильными промежутками, хоть вперед, хоть назад. Зимой, когда снег покрывал поля и луга, делая их неразличимыми, Мартин все равно называл неровную белую поверхность, мимо которой мы мчались, тем, чем она была: поле, луг, лес, выгон, выгон.
Наши деревенские, если не считать золовку Сельмы Эльсбет, были в основном не суеверны. Они беспечно делали все то, что суеверным делать было ни в коем случае нельзя: расслабленно сидели под настенными часами, хотя у суеверных от этого можно умереть, спали головой к дверям, тогда как у суеверных это означает, что скоро тебя вынесут через эту дверь ногами вперед. Они вывешивали белье сушиться между Рождеством и Новым годом, что у суеверных, как предостерегала Эльсбет, равносильно самоубийству или пособничеству в кровопролитии. Они не пугались, если ночью кричала сова, если лошадь в стойле сильно потела, если собака ночью скулила с опущенной при этом головой.
Но сон Сельмы обладал силой факта. Если ей во сне явится окапи, то в жизни появится смерть; и все делали вид, будто она явилась откуда ни возьмись, подкралась незаметно, будто она не была уже с самого начала в доле, всегда в неотдаленной близости, как крестная, которая всю жизнь напоминает о себе небольшими знаками внимания.
Наши деревенские встревожились, это было видно по ним, даже если они по большей части старались не показывать виду. В это утро, через несколько часов после сна Сельмы, люди двигались по деревне так, будто на всех дорогах их подстерегала гололедица, и не только на улице, но и в домах, гололедица на кухнях и в гостиных. Они двигались так, будто собственные тела были им чужие, будто у них воспалились все суставы и даже те предметы, которыми они орудовали, могли у них в руках воспламениться. Целый день они опасались за собственную жизнь и, насколько возможно, за жизнь других. Они то и дело оглядывались, не изготовился ли кто на них напрыгнуть с кровожадным намерением; кто-то, потерявший рассудок, после чего ему уже нечего было терять; и потом они быстро переводили взгляд перед собой, потому что кто-нибудь безрассудный мог атаковать их и фронтально. Они смотрели вверх, чтобы исключить падающую с крыши черепицу, ветку дерева или дорожный светильник. Они избегали животных, потому что из тех, как они считали, это могло прорваться скорее, чем из человека. Они обходили подальше самую миролюбивую корову — а вдруг она сегодня выйдет из себя, они сторонились собак, даже старых, которые уже едва стояли на ногах, — а вдруг и им взбредет на ум вцепиться в глотку человеку. В такие дни возможно все, и одряхлевшая такса перекусит горло, уж не намного это и нелепей, чем окапи.
Все были в тревоге, но не в ужасе, за исключением Фридхельма, брата местного лавочника, потому что для ужаса, как правило, требовалась уверенность. Фридхельм был так напуган, будто окапи во сне шепнул Сельме на ухо его имя. Он убежал чуть не с криком, дрожа и спотыкаясь, в лес и бродил там, пока его не изловил оптик и не привел к моему отцу. Отец был врач и поставил Фридхельму укол, который сделал его таким счастливым, что Фридхельм остаток дня ходил по деревне, пританцовывая, напевая «О прекрасный Вестервальд» и действуя всем на нервы.
Наши деревенские не доверяли своему сердцу, которое не привыкло к такому вниманию и поэтому стучало подозрительно учащенно. Они вспомнили, что при начинающемся инфаркте свербит в руке от плеча до кончиков пальцев, но не вспомнили, в какой, поэтому у всех деревенских зудело в обеих руках. Они не могли больше положиться на свое душевное состояние, которое тоже не было приучено к такому вниманию и от испуга тоже колотилось. Садясь за руль, беря в руки навозные вилы или снимая с плиты кастрюлю кипящей воды, они прислушивались к себе: не лишаются ли в этот момент рассудка, не прорывается ли изнутри неуправляемое отчаяние, а с ним и потребность дать полный газ и въехать в дерево, напороться на вилы или опрокинуть на себя кипяток. Или жажда — пусть не себя, но того, кто подвернется под горячую руку, соседа, деверя, жену — обварить кипятком, задавить или насадить на вилы.
Некоторые деревенские избегали всякого движения, целый день; иные даже дольше. Эльсбет когда-то рассказывала нам с Мартином, что несколько лет назад, на следующий после сна Сельмы день, пенсионер, бывший почтальон, вообще перестал шевелиться. Он был уверен, что любое движение могло означать для него смерть; и так продолжалось спустя дни и месяцы после сна Сельмы, в соответствии с которым уже давно кто-то помер, а именно мать сапожника. Почтальон так и остался навсегда сидеть. Его обездвиженные суставы воспалились, в крови образовались комки и в конце концов застряли где-то на полпути по его телу, и одновременно остановилось его недоверчивое сердце; почтальон лишился жизни из страха лишиться жизни.
Некоторые деревенские считали, что теперь самое время выложить затаенную правду. Они писали письма, непривычно многословные, в которых часто повторялись «всегда» и «никогда». Прежде чем умереть, считали они, надо хотя бы в последний момент выложить правду. А самой правдивой они считали затаенную правду: оттого что прежде к ней никому не было доступа, она загустевала, застаивалась в своей затаенности и закосневала в бездвижности; с годами эта правда становилась все тучнее. Не только люди, носящие в себе затаенную и тучную правду, но и сама эта правда верила в правдивость последней минуты. Она тоже рвалась в последний миг наружу и грозила, что помирать с затаенной внутри правдой будет особенно мучительно; что начнется унылое перетягивание каната между смертью, которая будет тянуть на себя, и разросшейся полной правдой, которая потянет на себя, потому что не захочет умереть невысказанной, она и так всю свою жизнь была погребена, а теперь хочет хотя бы выглянуть на волю — и либо распространить сатанинскую вонь и всех распугать, либо убедиться, что при свете дня она не так уж и страшна. Незадолго до предполагаемого конца затаенная правда стремилась получить о себе стороннее медицинское заключение.
Единственный, кто радовался сну Сельмы, был старый крестьянин Хойбель. Крестьянин Хойбель жил так долго, что стал уже почти прозрачным. Когда его правнук рассказал ему про сон Сельмы, крестьянин Хойбель встал из-за стола с завтраком, кивнул своему правнуку и пошел наверх к себе в мансарду. Улегся там в постель и смотрел на дверь, как ребенок в день своего рождения, проснувшийся от волнения слишком рано и нетерпеливо поджидающий, когда же наконец войдут родители с пирогом.
Крестьянин Хойбель был твердо уверен, что смерть его будет учтива, каким и сам Хойбель был все свои годы. Он был убежден, что смерть не вырвет у него жизнь, а бережно примет ее у него из рук. Он представлял себе, как смерть осторожно постучится, приоткроет дверь и спросит:
— Можно?
На что крестьянин Хойбель конечно же кивнет.
— Разумеется, — скажет крестьянин Хойбель, — милости просим.
И смерть войдет. Она остановится у кровати крестьянина Хойбеля и спросит:
— Сейчас вам удобно? А то я могу заглянуть и как-нибудь в другой раз.
Крестьянин Хойбель сядет на кровати и скажет: