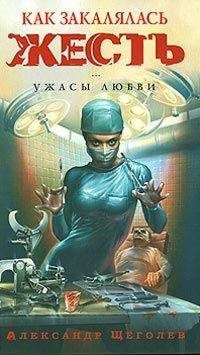Грин Грэм - Конец одного романа
– Как неприятно…
– Вы всегда дружили с ней, Бендрикс. Часто говорят, что муж хуже всех знает свою жену. Когда я вас сегодня увидел, я подумал: если я расскажу вам и вы засмеетесь, я сожгу письмо.
Он сидел у камина, вытянув мокрую руку, и не смотрел на меня. Меньше всего на свете мне хотелось смеяться, но я бы засмеялся, если бы мог.
– Что же тут смешного? – сказал я.– Хотя и подумать странно…
– Да, очень странно,– сказал он.– Наверное, вы считаете, что я дурак?
Только что я был бы рад засмеяться, а сейчас, хотя мне нужно было только солгать, вернулась былая ревность. Неужели муж с женой так едины, что приходится ненавидеть и мужа? Вопрос этот снова напомнил о том, как легко обманывать Генри. Иногда мне казалось, что он просто вводит Сару в соблазн (ведь если оставишь деньги в номере, соблазняешь вора), и я ненавидел его за то, что когда-то мне помогало.
От рукава поднимался пар. Не глядя на меня, Генри повторил:
– Да, считаете, что я дурак. Тут вмешался бес.
– Нет,– сказал я,– не считаю.
– Значит, по-вашему, это… мыслимо?
– Конечно. Сара – человек, не ангел. Он рассердился.
– – А я думал, вы ей друг,– сказал он, словно это я написал письмо.
– Конечно,– сказал я,– вы знаете ее гораздо лучше, чем я.
– В каком-то смысле да,– мрачно ответил он, и я понял, что он думает, в каком смысле я знал ее лучше.
– Вы спросили, Генри, не считаю ли я вас дураком, а я сказал, что в самой мысли нет ничего глупого. Я ничем не обидел Сару.
– Да, Бендрикс, я знаю. Я очень плохо сплю. Проснусь и думаю, что делать с этим письмом.
– Сожгите его.
– Если б я мог!
Он еще держал письмо, и я решил было, что он собирается его сжечь.
– Или пойдите к Сэвиджу,– сказал я.
– Он не поверит, что это не для меня. Представьте, Бендрикс,– сидеть в кресле, где сидело столько ревнивых мужей, рассказывать то же самое, что они… Интересно, есть там приемная, чтобы мы не видели друг друга?
«Странно,– подумал я,– он не лишен воображения!» Чувство превосходства пошатнулось, мне снова захотелось поддеть его, и я сказал:
– Может, мне пойти?
– Вам?
Я подумал, не далеко ли я зашел, не заподозрит ли что-нибудь даже Генри.
– Да,– сказал я, играя с опасностью. Что такого, если он узнает немного о прошлом? Ему же лучше, научится смотреть за женой.– Я притворюсь ревнивым любовником,– сказал я.– Они не так смешны, как мужья. Литература их поддерживает. Они – герои трагедии, а не комедии. Например, Троил. Мое самолюбие в безопасности. Рукав просох, но Генри не убрал руку, и ткань уже тлела.
– Вы правда готовы на это для меня? – сказал он, и я увидел слезы, словно он не ждал или не заслужил такого благородства.
– Конечно, Генри. У вас рукав горит.
Он посмотрел на рукав, будто тот горел не у него.
– Поразительно,– сказал он.– Нет, о чем я только думал! Рассказать вам и просить… об этом. Нельзя шпионить за женой через друга, да еще чтобы друг притворялся ее любовником.
– Да, это не принято,– сказал я.– И соблазнять не принято, и красть, и дезертировать, но это ведь все время делают. Без этого нет нынешней жизни. Кое-что я делал и сам.
– Вы хороший человек,– сказал Генри.– Мне нужно было выговориться, и все.
Сейчас он действительно поднес письмо к огню. Когда он ссыпал пепел в пепельницу, я сказал:
– Сэвидж, Виго-стрит, сто пятьдесят девять или сто шестьдесят девять.
– Забудьте,– сказал Генри.– Забудьте, что я говорил. Это все чушь. У меня часто болит голова. Надо сходить к доктору.
– Дверь стукнула,– сказал я.– – Это Сара.
– Нет,– сказал он.– Служанка, наверное. Она ходила в кино.
– Шаги Сарины.
Он пошел к двери, открыл ее, и лицо его стало приветливым, нежным. Меня всегда раздражала эта автоматическая реакция, она ничего не значила -нельзя всегда радоваться какой-то женщине, даже если ты влюблен, а Сара говорила (и я ей верил), что они никогда не были влюблены друг в друга. Куда честней, да и пылче, думал я, мое недоверие и моя ненависть. Во всяком случае, для меня она была полноправной личностью, а не частью дома, как статуэтка, с которой надо осторожно обращаться.
– Са-ра! – позвал он.– Са-ра! – фальшиво до невыносимости. Что мне сделать, чтобы незнакомый увидел, как остановилась она в холле, у лестницы, и обернулась к нам? Я всегда считал, что не надо навязывать своих представлений, поставлять готовые иллюстрации. Вот меня и подвело мое мастерство – ведь я не хочу, чтобы вместо Сары видели другую женщину, мне надо, чтобы видели ее большой лоб, смелый рот, ее скулу, но изобразить я могу только неопределенное создание в мокром плаще.
– Да, Генри? – сказала Сара, а потом: – Вы?
Она всегда говорила мне «вы» по телефону – «Это вы?», «Вы можете?», «Вы сделаете?»,– а я думал, как дурак, хотя бы несколько минут, что на свете – один только «вы», и это я.
– Очень рад, очень рад,– сказал я, ненавидя ее.– Выходили погулять?
– Да.
– Погода плохая,– назидательно заметил я, а Генри прибавил, явно беспокоясь:
– Ты вся промокла, Сара. Смотри, простудишься насмерть. Привычный оборот, во всей своей мирской мудрости, пронзает порой беседу, как голос рока. Но даже если бы мы знали, что Генри сказал правду, вряд ли кто-нибудь из нас двоих испугался бы – так были мы измучены недоверием и ненавистью.
Не могу сказать, сколько прошло дней. Старые страданья вернулись, а в этой тьме не легче считать дни, чем слепому замечать оттенки света. Через неделю или через три я решил, что делать. Теперь, через три года, я плохо помню, как сторожил со своей стороны сада, глядел на их дом издали, от пруда или из портика церковки, построенной веке в восемнадцатом, надеясь, что откроется дверь и Сара спустится по целым, хорошо вымытым ступенькам. Я ждал – и не дождался. Дождей больше не было, по ночам подмораживало, но ни Сара, ни Генри не появлялись, словно дом вымер. Я больше не встречал Генри. Наверное, он стыдился того, что сказал мне, он ведь очень почитал условности. Пишу это – и усмехаюсь, а сам, если подумать, только восхищаюсь такими людьми и доверяю им, как восхищаешься деревушками, когда едешь мимо них в машине, столько мира в их черепице и камне, столько покоя.
Помню, в те мрачные дни – или недели – мне часто снилась Сара. Иногда я просыпался страдая, иногда – радуясь. Когда думаешь о женщине весь день, не надо бы видеть ее во сне. Я пытался писать, ничего не получалось. Я выполнял свою норму, пятьсот слов в день, но персонажи никак не оживали. Наше дело очень зависит от того, как мы живем. Можно ходить по магазинам, считать налоги, болтать, а поток подсознания течет, как тек, решая твои проблемы, строя планы. Сядешь к столу пустым-пустой, и вдруг откуда-то берутся слова, выходят из тупика трудные сцены, работа сделана во сне, в магазине, во время беседы. Подозрения, ненависть, страсть к разрушению -глубже книги, и подсознание работало на них, пока однажды я не проснулся, твердо зная, что пойду днем к Сэвиджу.