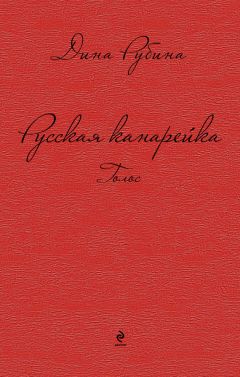Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
Да, несмотря на небольшой рост, его отовсюду видно за полмили, а не только из четвертого ряда партера. Его страсть к преображениям и перевоплощениям (что ж, и у той — сценические истоки), как и сам его голос, наводит любого знакомца и незнакомца на неверные мысли о его сексуальных предпочтениях. Но и это неплохо: это опрокидывает все стереотипы о наших методах работы и, в конце концов, уводит от подозрений: ну кто с ним станет связываться, с таким заметным?.. И главное: как я был прав много лет назад, убедив Гедалью, что нашему «Кенарю руси» просто необходимо поучиться и пожить в России. А теперь — разве не чудесна строчка в его досье: «Выпускник Московской консерватории по классу вокала»? Разве не открывает его экзотический голос двери любых посольств, штаб-квартир, закрытых клубов и неприметных вилл, где происходят встречи, судьбоносные для целых регионов?
Да: дорогая одежда ему идет гораздо больше, чем грязная форма солдата спецназа после особо тяжелого задания, больше, чем затертые джинсы и потная футболка строительного рабочего в Хевроне, где однажды он арабом прожил три месяца в каменном бараке, ни разу не посетовав на суровые условия жизни.
Вообще, приятно видеть мальчика в зените благополучия.
Стоит ли его тревожить — в который раз?
Наконец явился молодой долговязый официант, с готовностью выхватил из кармашка фартука блокнот с карандашом…
…и Калдман не без удовольствия перешел на немецкий, домашний свой, родной — от матери и бабки — язык.
— Пожалуй, мы оба склоняемся к форели… Свежую форель трудно испортить, не так ли? Но прежде всего: что посоветует Herr Ober из вин — Riesling или Grüner Veltliner?
Его безукоризненное произношение ласкало слух: «s», звучащее как «з» в нормативном немецком, он произносил, как летящее «эс», подобно венским снобам, неуловимо растягивая следующую гласную: «саа-ген» вместо канонического «заген»[2]. Это придавало гортанно бухающему немецкому вкрадчивое изящество.
— К форели я бы взял вайс гешпритц, — учтиво заметил официант. — Это наше домашнее белое, днем неплохо идет.
— Да-да, — поспешил вставить молодой человек. — Что-нибудь нетяжелое. Мне еще сегодня на прием…
Два-три мгновения Натан смотрел в спину официанту, огибавшему столики винтовым танцевальным пробегом. Наконец, отпустив эту извиняющуюся спину кружить по залу, повернулся к собеседнику:
— Вчера вечером нежданно-негаданно получил от тебя привет. Включил в номере «FM Classic» и попал на «Серенаду» Шуберта. И вроде, слышу, контратенор, да голос такой знакомый! Не может быть, думаю, с каких это пор ваш брат поет романтиков? Но уж когда ты сфилировал портаменто с до-диеза на фа, у меня все сомнения отпали: кроме тебя, некому. Браво, Леон! Должен признаться, испытал высочайшее наслаждение.
— После «Серенады» шла «Баркарола»? — вскользь поинтересовался тот.
— Да-да. И тоже великолепно!
Леон удовлетворенно улыбнулся:
— Благодарю, ты мне льстишь.
Итак, Грюндль, старая сволочь! И двух недель не прошло, как вышел диск, а он (владелец студии и блестящий тонмейстер, чего не отнять) уже успел толкнуть запись на радио, авось не поймают! Ну да, «венская кровь» — чай, не немцы какие. Чего только не намешано в аборигенах «Голубого Дуная»: и легкомысленности французов, и очаровательной жуликоватости итальянцев («Поздоровался с румыном — пересчитай пальцы!» — фольклор-то одесский, а вот формула универсальна для всех гордых потомков Юлия Цезаря). Впрочем, в легкомысленности австрияков есть свои плюсы. К примеру, немец, пойманный на воровстве (что редко, но случается), упрется, как на допросе, и сколько его ни дави, не признается. А игристый Грюндль, дитя веселого Ринга, ежели его прижать хорошенько, вполне может и заплатить, лишь бы отстали. Ну и отлично, напустим на него Филиппа; в конце концов, это его агентский крест — давить прыщи на физиономиях жуликоватых продюсеров.
— Ты мне льстишь, Натан, — повторил он. — Я еще загоржусь.
«Загордиться» от комплимента Натана Калдмана было немудрено: подобные знатоки классической музыки даже в среде профессионалов встречались нечасто.
— Какая там лесть… Скажу тебе откровенно: я прослезился, как старый осел, столько чувства было в твоем полуночном пении. И когда понял, что это именно ты звучишь… очарованным небесным странником, далеким от подлой грязи этого мира… — Натан включил все «европейские регистры» своего голоса; клочок левой брови завис над косящим глазом. — Словом, я принял это как личный подарок. Ты, конечно, не мог знать, что я слышу тебя, лежа на гостиничной койке с геморроидальной свечой в заднице. В это время ты, скорей всего, благополучно дрых, или пил коктейль на очередном светском рауте, или ублажал очередную телку, а? — Он вздохнул и прибавил совершенно по-детски: — Если б ты знал, как я люблю Шуберта.
— Кто ж его не любит, — покладисто отозвался Леон, то ли еще не учуяв подвоха, то ли просто не показав своей настороженности. Хотя насторожиться стоило: если старик затеял душевный разговор о наших музыкальных баранах, жди огро-омного сюрприза.
— Не скажи! — подхватил тот. — Велльпахер не последний в вашем деле человек, а в каком-то интервью признался, что Шуберту-Шуману предпочитает позднюю романтику: песни Брамса, Вольфа или Рихарда Штрауса.
— Так он же тенор, причем ближе к «ди форца». Контратенор в песнях Штрауса — злобная пародия… Ты бы все-таки снял пиджак? — заботливо повторил Леон. — Пока тебя удар не хватил. Похоже, он тесноват.
— Точно, я слегка поправился. И Магда отговаривала брать этот костюм. Но ты же знаешь мою слабость к почтенной благопристойности.
— Сними, сними. Наплюй на благопристойность.
— Кстати, все собирался спросить… — Калдман с облегчением выпрастывался из рукавов пиджака. — Нет ли у тебя в планах спеть «Der Hirt auf dem Felsen»?
— Что-о? Не смеши меня. Господи, и придет же человеку в голову…
— Но почему нет! Музыка обворожительная, репертуар сопрано для тебя — как родной… — Натан бросил пиджак рядом на диван и лукаво вскинул косматые брови.
…а венчик седого пуха над лысиной — что нимб у святого, особенно на просвет, в янтарном ореоле от настольной лампы: этакая пародия на боженьку, нашего кроткого боженьку, самолично отрывавшего яйца неудачникам, перехваченным по пути на дело…
— …а в паузах подыграл бы себе на кларнете — очень эффектно!
— Оставь. Мой амбушюр сдох давным-давно.