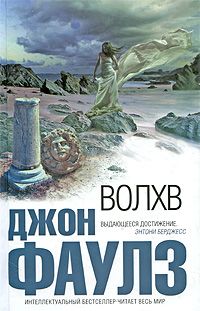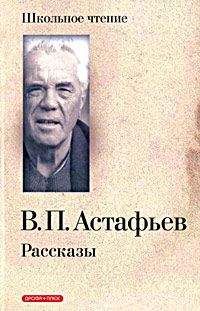Джон Фаулз - Любовница французского лейтенанта
— Любезнейшая, ваше пребывание здесь весьма рискованно. Стоит ветру усилиться…
Она обернулась и посмотрела на него, или — как показалось Чарльзу — сквозь него. От этой первой встречи в памяти его сохранилось не столько то, что было написано на ее лице, сколько то, чего он совсем не ожидал в нем увидеть, ибо в те времена считалось, что женщине пристала скромность, застенчивость и покорность. Чарльз тотчас почувствовал себя так, словно вторгся в чужие владенья, словно Кобб принадлежал этой женщине, а вовсе не древнему городу Лайму. Лицо ее нельзя было назвать миловидным, как лицо Эрнестины. Не было оно и красивым — по эстетическим меркам и вкусам какой бы то ни было эпохи. Но это было лицо незабываемое, трагическое. Скорбь изливалась из него так же естественно, незамутненно и бесконечно, как вода из лесного родника. В нем не было ни фальши, ни лицемерия, ни истеричности, ни притворства, а главное — ни малейшего признака безумия. Безумие было в пустом море, в пустом горизонте, в этой беспричинной скорби, словно родник сам по себе был чем-то вполне естественным, а неестественным было лишь то, что он изливался в пустыне.
Позже Чарльз снова и снова мысленно сравнивал этот взгляд с клинком; а такое сравнение подразумевает не только свойство самого предмета, но и производимое им действие. В это короткое мгновенье он почувствовал себя поверженным врагом и одновременно предателем, по заслугам униженным.
Женщина не произнесла ни слова. Ее ответный взгляд длился не более двух-трех секунд, затем она снова обратила взор к югу. Эрнестина потянула Чарльза за рукав, и он отвернулся, с улыбкой пожав плечами. Когда они подошли к берегу, он заметил:
— Жаль, что вы раскрыли мне эти неприглядные факты. В этом беда провинциальной жизни. Все всех знают, и нет никаких тайн. Ничего романтического.
— А еще ученый! И говорит, что презирает романы, — поддразнила его Эрнестина.
3
Но еще важнее то соображение, что все главнейшие черты организации всякого живого существа определяются наследственностью, отсюда вытекает, что, хотя каждое живое существо, несомненно, прекрасно приспособлено к занимаемому им месту в природе, тем не менее многие организмы не имеют в настоящее время достаточно близкого и непосредственного отношения к современным жизненным условиям.
Ч. Дарвин. Происхождение видов (1859)Из всех десятилетий нашей истории умный человек выбрал бы для своей молодости пятидесятые годы XIX века.
Дж. M. Янг. Портрет эпохи[11]Возвратившись после завтрака к себе в гостиницу «Белый Лев», Чарльз принялся рассматривать в зеркале свое лицо. Мысли его были слишком туманны, чтобы их можно было описать. Однако в них несомненно присутствовало нечто таинственное, некое смутное чувство поражения — оно относилось вовсе не к происшествию на Коббе, а скорее к каким-то банальностям, которые он произнес за завтраком у тетушки Трэнтер, к каким-то умолчаниям, к которым он прибегнул; к размышлениям о том, действительно ли интерес к палеонтологии — достойное приложение его природных способностей; о том, сможет ли Эрнестина когда-нибудь понять его так же, как он понимает ее; к неопределенному ощущению бесцельности существования, которое — как он в конце концов заключил — объяснялось, возможно, всего лишь тем, что впереди его ждал долгий и теперь уже несомненно дождливый день. Ведь шел только 1867 год. Чарльзу было всего только тридцать два года от роду. И он всегда ставил перед жизнью слишком много вопросов.
Хотя Чарльзу и нравилось считать себя ученым молодым человеком и он бы, наверное, не слишком удивился, если бы из будущего до него дошла весть об аэроплане, реактивном двигателе, телевидении и радаре, его, несомненно, поразил бы изменившийся подход к самому времени. Мы считаем великим бедствием своего века недостаток времени; именно это наше убеждение, а вовсе не бескорыстная любовь к науке и уж, конечно, не мудрость заставляют нас тратить столь непомерную долю изобретательности и государственного бюджета на поиски ускоренных способов производить те или иные действия — словно конечная цель человечества не наивысшая гуманность, а молниеносная скорость. Но для Чарльза, так же как для большинства его современников, равных ему по положению в обществе, жизнь шла безусловно в темпе адажио. Задача состояла не в том, чтобы сжать до предела все намеченные дела, а в том, чтобы их растянуть и тем заполнить бесконечные анфилады досуга.
Один из распространеннейших симптомов благосостояния в наши дни — губительный невроз; в век Чарльза это была безмятежная скука. Правда, волна революций 1848 года и воспоминание о вымерших чартистах[12] еще отбрасывали исполинскую тень на этот период, но для многих — и в том числе для Чарльза — наиболее существенным признаком этой надвигавшейся грозы было то, что она так и не грянула. Шестидесятые годы были, несомненно, эпохой процветания; достаток, которого достигли ремесленники и даже промышленные рабочие, совершенно вытеснил из умов мысль о возможности революции, по крайней мере в Великобритании. Само собою разумеется, что Чарльз понятия не имел о немецком ученом-философе, который в тот самый мартовский день работал за библиотечным столом Британского музея и трудам которого, вышедшим из этих сумрачных стен, суждено было оказать такое огромное влияние на всю последующую историю человечества. И если бы вы рассказали об этом Чарльзу, он наверняка бы вам не поверил, а между тем всего лишь через полгода после описываемых нами событий в Гамбурге выйдет в свет первый том «Капитала».[13]
Существовало также бесчисленное множество личных причин, по которым Чарльз никак не подходил для приятной роли пессимиста. Дед его, баронет, принадлежал ко второму из двух обширных разрядов, на которые делились английские сельские сквайры — приверженные к кларету охотники на лис и ученые собиратели всего на свете. Собирал он главным образом книги, но под конец жизни, истощая свои доходы (и еще более — терпение своего семейства), предпринял раскопки безобидных бугорков, испещрявших три тысячи акров его земельной собственности в графстве Уилтшир. Кромлехи и менгиры,[14] кремневые орудия и могильники эпохи неолита — за всем этим он гонялся так же яростно, как его старший сын, едва успев вступить во владения наследством, принялся изгонять из дома отцовские портативные трофеи. Однако Всевышний покарал — или вознаградил — этого сына, позаботившись о том, чтобы он не женился. Младший сын старика, отец Чарльза, получил порядочное состояние как в виде земель, так и денег.