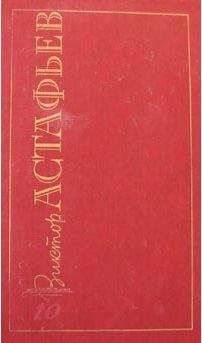Виктор Астафьев - Царь-рыба
С каким облегчением кобель вываливался из избяной утесненности, когда чуть теплело на дворе. Он валялся в снегу, отряхивался, выбивая из себя застойный дух тесного человеческого жилья. Подвявшие в тепле уши снова ставил топориком и, озырнувшись на избу — не видит ли хозяин, бегал за Колькой, цепляя его зубами за телогрейку. Колька был единственным на свете существом, с которым Бойе позволял себе играть, да и то по молодости лет, после отрекся от всяких игр, отодвигался от ребятишек, поворачивался к ним задом. Если уж они совсем неотвязны делались, не очень чтобы грозно, скорее предупредительно, заголял зубы, катал в горле рык и в то же время давал взглядом понять, что досадует он не со зла, от усталости…
Без охоты Бойе жить не мог. Если отец или Колька по какой-либо причине долго не ходили в лес, Бойе ронял хвост, лопоухо опускал голову, неприкаянно бродил, никак не мог найти себе место, даже повизгивал и скулил, точно хворый.
На него кричали, и он послушно смолкал, но томленье и беспокойство не покидали его. Иногда Бойе один убегал в тайгу, подолгу там пропадал. Как-то припер в зубах глухаря, по первому снегу вытропил песца, пригнал его к бараку и до того загонял бедную зверушку вокруг поленницы дров, что, когда на гам и лай вышел хозяин, песчишко сунулся ему меж ног, отыскивая спасенье и защиту.
Бойе шел по птице, по белке, нырял в воду за подраненной ондатрой, и все губы у него были изорваны бесстрашными зверьками. Он умел в тайге делать все и соображал, как не полагалось животному, чем вбивал в суеверие лесных людей — они его побаивались, подозревая нечистое дело. Не раз спасал и выручал Бойе Кольку — друга своего. Тот однова так забегался за подранком — глухарем, что затемняло в тайге и замерз бы лихой охотник в снегу, да Бойе сперва отыскал, затем привел к нему людей.
Было это ранней зимой, а по весне Колька приволокся на глухое озеро пострелять уток. Бойе обежал лесом озеро, прошлепал но мелкому таю, остановился на обмыске и замер в стойке, глядя в воду. «Чего-то узрел!» — насторожился Колька. Бойе приосел в осоке, пополз к урезу берега, вдруг пружинисто взметнулся, бултых в воду! «Вот дурень! — улыбнулся Колька. — Засиделся около дома, балуется». Но Бойе тащил что-то в зубах, бросил на берег, отряхнулся. Колька приблизился и опешил — в траве каталась щучина килограмма на два. Бойе ее лапой прижал, ухмыляется.
Услышав этакое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье, но Колька настоял сходить еще раз на озеро, потом, мол, лупцуй, если набрехал. Когда Бойе выпер вновь из воды щучину, папа, которого вроде бы ничем уже было не удивить на этом свете, развел руками:
«Чего за свою бурную жизнь не перевидел, — говорит, — приключений каких только не изведал, однако подобного дива не зрел еще. Бестия — не кобель! Раньше бы меня повесили вместе с собакой на лиственнице, або утопили обоих — за колдовство, привязавши к одному камню…»
В ту пору часть буксирных пароходов ходила еще на дровах. Надолго причалив к берегу у Сушкова, суда запасались топливом, которое тут зимами ширкал наезжий люд, все больше ссыльный.
Был Бойе большой любитель встречать и провожать пароходы. Однажды он забежал на буксир, отыскивая отца, подавшегося разведать насчет выпивки, и, пока хозяин искал горючку или пиво, а кобель искал хозяина, деляги с буксира поймали его на поводок. Никогда не кусал Бойе людей и не знал, что иной раз укусить их следовало бы. Пароход набрал дров, загудел и наладился отваливать. Тут и хватилась семья — нет кормильца и сторожа. Покричали его, позвали — не откликается. Заревели ребятишки в голос, мачеха заревела — пропадать без собаки. Папа чалку не отдает. Капитан штрафом грозится за задержку судна. Ругались, ругались пароходные люди, но все же подали трап. Весь буксир обошел, обшарил поднабравшийся папа — нет собаки. И тогда он решительно крикнул:
— Ко мне, Бойе!
И тут же из машинного отделения буксира раздался рыдающий голос кобеля. Конфуз и паника были на пароходе, потому что папа рвался пальнуть из ружья по рубке капитана, но семья висела на нем, отымала ружье. Папа все же пальнул дробью вслед кораблю, да не достал, тот уже был далеко от берега.
Бойе отводил глаза, виновато вилял хвостом, стыдясь оплошки. К пароходам он с тех пор близко не подходил. Сядет на подмытом приплеске, посматривает на пароход и озирается на кусты, дескать, чуть что, дерану в лес, только меня и видали!
К поре моего свидания с семьей должность десятника на дровозаготовках крепко уже утомила папу, душа его жаждала перемен, бурной деятельности — замышлял он податься в начальники рыбного участка, так как по сию пору считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы.
Я отговаривал родителя — только что был опубликован грозный, карающий указ о финансовой и иной ответственности, толковал ему о том, что семья, слава богу, при месте, от тайги питается мясом, рыбой, ягодами и орехами, мол, воздвиг досрочно Беломорканал и довольно с него трудовых подвигов, на что родитель ответствовал коротко и решительно: «Яйца курицу не учат!» И вскоре после моего отъезда из Сушкова подался-таки на руководящий пост.
Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами: «Пишу письмо — слеза катится…» По лирическому запеву послания не составляло труда заключить: папа опять проживает в «белом домике». И снова — в который раз! — затерялся, запропал след родителя, оборвалась непрочная, всегда меня мучающая связь с нашей нескладной и неладной семьей.
Лет десять спустя после встречи с отцом и семьею в Сушкове попал я на Север по творческой командировке. На сей раз бог меня миловал — в Игарке ничего не горело. Последний раз пожар в городе был неделю назад и уничтожил не что иное, как позарез мне нужное заведение — гостиницу. Местные газетчики поместили меня в пионерлагерь, располагавшийся на мысу Выделенном — самом сухом и высоком здесь месте, с которого отдувало комаров, и детишки спали в домиках без пологов.
Утром я пробудился по горну, дождался, когда смолкнет ребячий гвалт, и отправился умыться на Енисей. Вышел, гляжу — сидит на крашеной скамейке худенький быстроглазый парень с красивым живым лицом, в кепке-восьмиклинке и приветливо улыбается.
Я заозирался вокруг — никого нигде не было, и тогда изобразил ответную улыбку. Паренек бросился мне на шею, сдавил ее костлявыми руками и, как бабушка из Сисима десять лет назад, библейски возвестил:
— Я брат твой!
Коля был и остался заморышем-подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сержанта. Не видавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей. Где со слезами, где со смехом поведал он о том, как жили и росли они после моего приезда в Сушково.