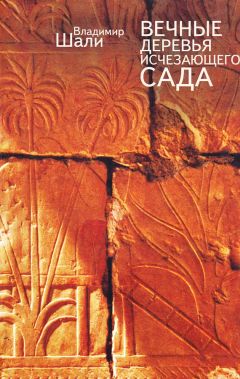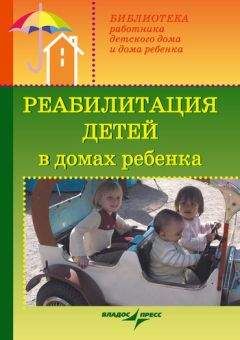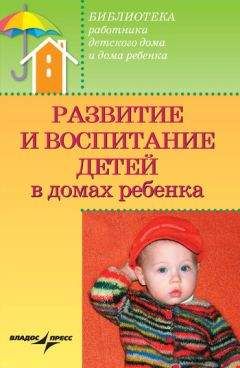Эдвард Куровский - Мурманская ночь
Меня привели в деревянный барак с решётками на окнах. Я стряхнул снег с обуви. Стоявший в дверях солдат смотрел на меня так, словно хотел меня запомнить. За сбитым из неструганных досок и обожжённым с одного края столом сидел старший лейтенант средних лет. Позади него на облупившейся стене чуть криво висел испачканный чем-то портрет Сталина. Лейтенант был небрит. Его маленькие глазки настороженно смотрели на меня.
— Вот карандаш, напишите свою автобиографию.
— Вы умеете читать по-польски? — спросил я.
— Найдём, кому прочитать.
Я выглянул в окно и увидел потемневшие груды снега, едва приметные во мгле обгоревшие брёвна и смутные очертания судовых мачт в заливе. В этой тьме почудился мне родной мой городок Хыров, окружённый кольцом гор. С этих гор я съезжал на лыжах до самого крыльца школы. И ещё вспомнил я, как на кладбищенском холме играли мы в прятки.
— Пишите, — повторил лейтенант, пододвигая ко мне огонёк керосинки.
Потом солдат отвёл меня в камеру. Втолкнул и запер дверь. Я стоял посреди этого тёмного сарая и никак не мог понять, что произошло. Я думал, что всё дело тут в Ане, но потом вспомнил, что это, кажется, лейтенанта вовсе не интересовало. Я потребовал свидания с капитаном своего корабля. Охранник, посоветовавшись с кем-то, сообщил мне, что капитана в Мурманске нет. Судя по всему, он не врал, иначе кто-нибудь из наших непременно навестил бы меня в госпитале. Я стал стучать в дверь, приготовившись двинуть в морду солдату, который втолкнул меня сюда. Возможные последствия этого шага меня не пугали. Но охранник стоял далеко от меня. Я потребовал встречи с комендантом города.
— Не стучи, — услыхал я хриплый голос. — Это не поможет.
Возле стены, на нарах, что-то зашевелилось. Я не знал, что здесь есть кто-то ещё кроме меня.
— А что украл ты?
— Украл? — удивился я. — Ничего.
— А вот я — консервы. Всего одну банку. Мы разгружали польское судно из британского каравана.
— Как оно называлось? Может быть, «Пяст»?
— Так точно.
— Я с этого судна.
— Вот так встреча! Эх, свидеться бы нам где-нибудь в пивнухе. Ты привёз такие хорошие консервы, а я уже не помню, когда ел вдоволь. Съем, думаю, только половину, а остальное отошлю жене и детям, их эвакуировали в Сибирь. Там тоже голодно, а я уже столько месяцев здесь.
Он шлёпнул себя по животу.
— Съем, думаю, половину, а остальное вышлю. Но как это сделать? Охранник нащупал у меня банку, и — вот, тюрьма. У других не нашёл, а у меня нащупал. Теперь за это — три года. А в Ленинграде за кражу ложки сахара — смертная казнь. Приговор приводится в исполнение немедленно. А мне — три года. А через три года мне не позволят бороться с захватчиками. А ты… что украл ты?
— Ничего. Мы привезли на польском корабле консервы и боеприпасы.
— Значит ты политический. Это ещё хуже.
— Как это «политический»?
— Уж они-то придумают для тебя обвинение. Шпионаж в пользу мирового империализма. Ты привозишь консервы, а вывозишь секретную информацию. На тебе иностранная форма.
— Какую ещё информацию?
— Шпионскую. За это — десять лет. Что это на тебе за форма?
— Польская.
— Значит, ты поляк. Вы не такие, как фашисты, но…
— Что ты имеешь против меня?
— Я — ничего, а вот они… Когда ты признаешься, тебе дадут десять лет. А если не признаешься — двадцать.
— В чём же я должен признаться?
— Это они тебе сами придумают.
— Шутишь, — занервничал я.
— Ладно, не психуй, — ответил он спокойно; в темноте я никак не мог разглядеть его лицо. — На тебе мундир империалистической державы…
— Ну и что? — перебил я его. — Я сражаюсь на вашей стороне.
— Это не имеет значения. Многие поляки работали на царя в Сибири, они тоже были невиновны. Так же и теперь.
Мне не хотелось с ним спорить. Я думал об Ане. У меня было много девушек, но я никогда не думал о них — вспоминал их только тогда, когда мне было хорошо или когда я приближался к порту, где должен был встретить какую-нибудь из них. «Веришь ли ты в любовь?» — до сих пор ни одна из них не задавала мне такой вопрос.
Русский на нарах что-то такое говорил о поляках и об империализме, но я не понимал его.
Потом советский солдат со штыковой винтовкой в руках отвёл меня к другому офицеру, к капитану. Тот вежливо поздоровался со мной. Я слыхал об этих методах: о том, что первый следователь — законченный хам, второй же, наоборот, вежлив, внимателен. Капитан велел мне сесть на деревянный табурет у стола и сказал, что мне грозит срок в десять лет.
— Наш суд, — добавил он, — весьма суров к врагам народа.
— Что же такое я сделал?
— Не перебивайте меня. Сейчас война, мы должны быть особенно бдительными. О чём вы говорили с сестрой Аней?
— Ни о чём.
— Как так «ни о чём»? Вы занимались с ней любовью молча? Для полной ясности скажу: к тому факту, что вы с ней, так сказать, спали, у нас нет никаких претензий… а кстати, между нами, она ничего, а?.. Вы можете ещё раз сходить к ней, или мы приведём её сюда, как угодно, — но со мной вы обязаны быть искренним.
— Не делайте ей ничего плохого.
— Да какое там… Она, кажется, тоже довольна вами. Буду с вами откровенен: нас интересует не столько ваша беседа о любви, сколько то, о чём вы расспрашивали её. Понимаете? Вот и ответьте: какие вопросы вы задавали ей?
— Она спросила меня, верю ли я в любовь.
— О чём спрашивала она вас, мы знаем. А вот о чём расспрашивали вы её?
Я понял, что они уже допрашивали Аню, и занервничал. Неужели ей поручили вытянуть из меня какую-нибудь информацию? Я стал вспоминать, чем ещё, кроме того, верю ли я в любовь или нет, интересовалась она во время наших встреч в коридоре.
— Вы спрашивали её, откуда она родом, не так ли? — прервал мои мысли капитан.
Я ответил, что нет. Капитан достал из ящика стола листок тетради, на котором было что-то написано химическим карандашом; нетрудно было заметить, что иногда карандаш слюнили, чтобы текст выглядел чётче.
— Вы спрашивали, кем были её родители и как живётся им в колхозе. Не перебивайте! В принципе, в подобных вопросах нет ничего плохого, но вы должны честно рассказать, кому вы передадите эту информацию в Лох-Эве.
— Никому.
— Как так «никому»? Кто-то ведь поручил вам задавать подобные вопросы.
— Никто.
— А зачем же тогда вы задавали их?
Понимая, что Аня уже призналась в этом, я не стал говорить, что такого разговора не было, и соврал, будто спрашивал её из чистого любопытства.
— А если вас спросит кто-нибудь об этом в Ирландии, что ответите?
— Ничего. Отделаюсь шуткой.
— А если нальют виски или просто заплатят, правду скажете?
— А это что — тайна, как живут люди в колхозе?
— Сейчас война. Наша стратегия — это не только снаряды для фронта, это ещё и крепкий тыл. Зачем вы задавали медсестре именно такие, а не какие-нибудь другие вопросы? Почему, например, не спросили, какие звёзды светят над её колхозом, а вот о том, как живут там люди, спросили? Почему расспрашивали её о том, чем они питаются, как одеваются, какова урожайность с гектара? Лучше бы поинтересовались у неё, где она такую замечательную жопу отъела…
— Если уж быть откровенным, поинтересовался. И о звёздах тоже спрашивал.
— Хорошо. Но и шпионские вопросы задавали тоже. Наше сталинское правосудие относится сурово к врагам рабочего класса. Мы — первое в мире государство рабочих и крестьян, а вот вы… я имею в виду империалистов, кровопийц… хотите нас уничтожить. Мы вынуждены защищаться. И мы сумеем сделать не только это — мы победим.
Перспективы, которые открыл передо мной этот, как мне сначала показалось, симпатичный капитан, отнюдь не обрадовали меня. Я поглядывал на его посиневший нос (даром что в комнате топилась печка) и думал о том, что теперь от этого человека зависит вся моя жизнь.
— Но выход есть, вам нужно только воспользоваться моим предложением.
В комнате было прохладно, но мне вдруг стало жарко. Я ждал, что же такое он мне предложит.
— Ваше судно в архангельском доке. Завтра или послезавтра на британском «Кинге» вы поплывете в Ирландию. В Лох-Эве свяжетесь с первым офицером «Декабриста», сейчас это судно там. Вам скажут, что делать дальше.
— И это всё?
— Да. Там вам объяснят. Мы друг друга поняли?
— Ясно, потом опять в Мурманск…
— А разве вы не хотели бы вернуться к своей Ане? Она будет тосковать, ждать вас. Русские девушки умеют любить, не правда ли?
Я кивнул. Мне хотелось как можно скорее вырваться оттуда. И я не вполне отдавал себе отчёт в том, на что согласился.
— Подпишите здесь.
Мои руки задрожали.
— Зачем?
— Мы найдём вас везде…
Я подписал, и меня освободили. К Ане больше не пошёл, хотя очень хотел увидеть её ещё раз.
И только через сорок пять лет я снова приехал в Мурманск…