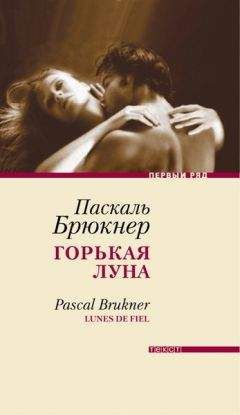Иоанна Ингельхайм - Человек, убивший его отца
— Ты, мне кажется, скорее гуманитарий по складу личности, — глубокомысленно заявляет она. Все эти девицы, которые по чистой случайности не продолбали шпоры по психологии, получили пятёрку и с тех пор воображают себя Аннами Фрейд…
— Некоторые люди сами выбирают, кем быть, — медленно произносит Глеб, понимая, что эта фраза до одури банальна и, возможно, не до конца правдива.
— У меня сложилось впечатление, что тебя кто-то заставил, — говорит она. Нет чтобы добавить: «Извини за бестактность», или: «Я просто хочу тебе помочь», или: «Может быть, я недопонимаю тебя». Потрясающая самонадеянность.
— Не заставил, нет, — спокойно говорит Глеб и случайно смахивает на пол пепельницу (эта шмара, ко всем её недостаткам, ещё и курит). — Всего лишь кое-чему научил. Это был человек, убивший моего отца.
— Ты что сочиняешь?! — недоверчивым шёпотом спрашивает она. В её системе координат убийство относится к фильмам ужасов и сводкам новостей. В настоящей жизни такого быть не должно. Она подсознательно уверена: все, кто говорит, что сталкивался с убийством, врут. Таких людей среди её знакомых быть не может. Убийство настолько приукрашено и затаскано режиссёрами, что его метафизическая (если предположить, что метафизика существует) и смысловая составляющие кажутся далёкими от реального преступления, как роман «Унесённые ветром» — от ебли поселковых алкоголиков.
Больше всего ей не понравилось его спокойствие. Через три года она станет учительницей информатики на окраине своего городка, заведёт livejournal и напишет там: «Спокойствие способно взбесить, как ничто другое», — фразу такую же претенциозную, банальную и трусливую, как она сама.
* * *Полы в доме проседают, пишет мать. Во дворе всё заросло. В военчасти новый начальник, похож на мразь. Если похож — значит, и есть мразь. Так ей подсказывает опыт.
Могла бы выйти замуж по объявлению и смыться оттуда, думает Глеб. Вот бы двор зарос терновником, это хотя бы красиво и символично. А там наверняка лопухи, татарник и хмель. Тоже, в общем-то, символично.
Во дворе его нового дома ничего не растёт. Нет, конечно, это не его дом. Какой-то сомнительный пиар-менеджер сдал им с приятелями квартиру. Они вынуждены жить вскладчину: приятелям надо выплачивать кредиты за ноутбук и ремонт комнаты в коммуналке, а Глеб хочет накопить денег на оплату аспирантуры. Сейчас ничего не возьмёшь простым упорством и уверенностью в себе, а тем более — мозгами. Сейчас нужны деньги и столичная регистрация. Но большая часть денег уходит на жильё и взятки.
А, да, ещё девкам на аборты. Они плачутся, что их не берут работать программистами. Негде зарабатывать на аборты. Бесплатные делают под новокаином, а он действует не на всех. Мужики — козлы, и т. д., и т. п. Какого чёрта ты тогда со мной общаешься, становилась бы лесбиянкой, советует Глеб одной из них. Овца начинает истерить, как будто в этом есть что-то плохое, хотя ещё Фрейд писал о свойственной всем женщинам бисексуальности. Итак, денег нет.
— Ты эгоист, — отмечает сосед. Глеб ведёт себя так, что у соседа пропадает желание исповедоваться на тему баб, футбола и надоевших игр компании «Blizzard», а надо вести себя так, чтобы это желание возрастало, тогда они с соседом станут друзьями. Только на хуй нужен такой друг?
Такая работа, как у него, стоит денег. Он не может позволить себе дешёвые примочки — его сочтут неудачником и не порекомендуют в приличную фирму, так и будет подрабатывать чёрт-те где. Кто выдумал, что это крайне удачная, актуальная профессия? Этого человека следовало бы удавить.
Ему снится, что из монитора вылетают бензольные кольца. При такой жизни травы не надо. Закрой глаза и смотри. Тебе ещё не то покажут.
Мать просит денег.
Раньше ему снились уравнения и доказательства, а не вся эта сетевая муть. Дурацкие заставки, глючные игры, малограмотный бред сидящей от нечего делать в подростковых сообществах мудлоты. Он понимает, что напишет диссертацию, только если кто-то выметет из его комнаты и головы весь мусор. Полина, которую он случайно встретил в сети, — не самый подходящий для этого человек, но с ней, по крайней мере, можно разговаривать.
Конечно, это никакой не виртуальный роман, её вполне можно встретить в богемном клубе всего шестью-семью станциями южнее. Она живёт с подругой, которая не знает, что по ночам Полина переписывается с парнем. Раньше женщины скрывали от мужчин, что переписываются с другими женщинами на определённые темы. Видимо, то, что происходит сейчас, следует называть прогрессом или переоценкой ценностей.
Не перетрудись, насмешливо рекомендует она соседу Глеба, модератору литературного сайта, который так задолбался читать жалобы сумасшедших графоманов, а особенно — их стишки, что скоро совсем озвереет. У неё короткие чёрные волосы с отдельными красными прядями и шесть серёжек в ушах, как у Suicide Girls. Её ровесницы в глуши рожают очередных недоумков и проливают слёзы в очередную кастрюлю с борщом для мужа-пьяницы. Хотя нет, в этой дыре чаще готовят манты.
Сосед не переносит Полину. Другой сосед закрылся с бабой. Больше комнат в квартире нет. Можно уйти в ванную. Тараканы кажутся особенно рыжими и чёрными на фоне белой сверкающей ванны, приобретённой на деньги Глеба (соседи скидываться не захотели, а он не захотел мыться ржавой водой в ржавой посудине. Итак, денег нет.)
— Тень, — рассеянно говорит она. — Ты живёшь в тени.
Можно выйти на лестничную площадку. Там было тихо, пока на этаж не вселились молдаване и хачи. Но сейчас они спят.
Он не курит, но сейчас берёт у Полины сигарету для пары затяжек.
Тот человек, на которого ты хотел быть похожим…
Нет, больше Глеб не употребляет слова «убил». Даже спьяну. Это никому не нужно — знать, кто убил твоего отца.
Он смотрит на облепленные рекламными и коммунистическими листовками двери лифта и вспоминает стихи, которые прочитал в середине девяностых в местечковой любительской антологии: «Сигареты, коридор, / Грязный туалет, / Полусонный разговор, / Двадцать восемь лет». Нельзя любить такие стихи, они не только дилетантские, но и чернушные; возможно, автор пил с составителем, иначе это не взяли бы никуда. В середине девяностых Глебу казалось, что он никогда не будет чувствовать себя, как герой этого стихотворения.
У него узкая, лёгкая кость, но ещё в старших классах он научился отжиматься на кулаках лучше, чем здоровенные парни. Сейчас он вынужден постоянно сидеть за компьютером, так зачем он этому учился?
Лейтенант Кормухин приспособился бы к таким условиям.
Нет. Сейчас не его время.
И что, говорит он, теперь я должен осознать пагубность влияния этого стихийного ницшеанца (или кем он был — я, честное слово, до сих пор не могу это понять, Полина) и обратиться душой к добру и свету или, как это теперь принято называть, толерантности? Может, мне ещё в церковь пойти? Нет, это вы, гуманитарии, бродите в тумане и цепляетесь за чахлые кусты, чтобы не заблудиться окончательно, хотя эти кусты надо бы рвать с корнем.
Бог не задумал жизнь такой, говорит она. И твою тоже. Leben, бог не задумал тебя тобой, это Гандельсман написал, такой поэт.
Давай, конечно, ты у нас высокодуховная личность, ты сама кому угодно расскажешь, где надо рвать с корнем, а где — просто смахивать пыль. Стоило ли учиться чёткости и беспощадности взгляда на реальную жизнь, когда тебе подсовывают виртуальную муть, пестрящую обманками и подлогами?
А ведь это всего лишь порождение реальности, неотъемлемая часть её, говорит Полина.
Ему тоже тогда было двадцать восемь, человеку, убившему его отца.
Да, ей, кажется, действительно можно рассказать. В её таёжном мусоросборнике мужики все злые, топорами секутся. А ты всего лишь был свидетелем перепалок в военчасти. Сломанные ударом кулака лицевые кости и череп, разрубленный топором, — есть тут разница?
Говори тише.
* * *— Это не метод не действует, — говорит она. — Просто он был человеком жизни, а ты — человек смерти.
— А я думал, это генетика. Мне передался принципиально иной тип темперамента. Хоть иди и застрелись.
— Можно и так сказать.
— Я не то что пытался подражать ему все эти годы, — говорит Глеб, — просто он мне словно был виден отовсюду. Как памятник — из любого уголка ближайшего парка. Но человек — это не памятник.
— Это возрастной кризис, говорит она. — И вообще, можешь ты жить с мыслью, что никто никого не убивал?
— Даже если не убивал, это всё равно, что убил. Самообман оставь для подростков, гуманистов и христиан.
— Он — человек жизни, ты — человек смерти. Не всегда стоит играть с противоположностями.
— Ещё скажи, что я некрофил, и из сочувствия помоги устроиться на работу в морг. Я, кстати, до сих пор не боюсь трупов. Мне на них плевать.
(Но всё равно он превратится в своего отца — лысеющего зажатого ублюдка. Поэтому нет разницы, боится он смерти или всего лишь возвращения домой.)