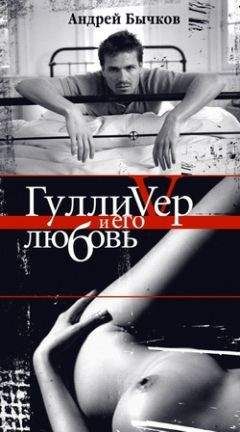Леонид Зорин - Письма из Петербурга
Не спорю. Но в том и суть, чтоб народ не сам добывал желанную вольность. Когда наконец она будет дана ему и утвердится в его повседневности, как нечто природное и изначальное, то сам он с готовностью примет границы, согласные с разумом и правом. Да, некоторые горячие головы твердят об «общественном договоре». Но я предпочел бы жить на земле под сенью «естественного закона». Он и надежнее, да и выше, нежели «contrat sociale». Не потому ли еще Лукреций так уповал на «порядок вещей»? Не для того ли Солон и Ликург обуздывали законами страсти? Стоит ли ждать рокового дня, когда человеческая натура, униженная и уязвленная, отдаст себя во власть исступления?
Я точно вижу Вашу улыбку, с которой Вы напомните мне, что европейское жизнеустройство не вяжется с нравами россиян, хотя все люди несовершенны, как доказали это французы в последнее десятилетие века. Вам, госпоже моей души, скажу, как на исповеди: я с содроганьем думаю о судьбе Людовика, так же, как и о казни Карла, топор с гильотиною мне внушают одно отвращенье, но… я понимаю желание наций жить без кумиров, столь же достойное, сколь безнадежное — жить без кумиров они не умеют. Кромвель, властолюбивый и грозный, был тот же король, да и сам Бонапарт, в сущности, уже венценосец — поверьте, он себя коронует быстрее, чем Франция сообразит, что произошло и возникло из грома орудий при Вальми и гордого зова ее Марсельезы. Ибо стремление к верноподданности и к преклонению перед идолом — едва ль не в крови Адамова рода. Спасение для него все то ж: законы при твердом их исполнении.
Кто знает, быть может, как раз Россия окажется избранной Провидением, чтобы явить пример человечеству? Наша история беспощадна, таков же и осьмнадцатый век.
Ведет ли неведомый летописец суровый и неподкупный счет неисчислимой чреде всех жертв — всех павших, зарубленных, умерщвленных от дней Петровых до сей поры?
Нет, неспроста, не игрой совпадений с яицкого дальнего берега дошел до Казани лихой казак, едва не спаливший дотла империю.
В этой чудовищной русской смуте, поспешно названной пугачевщиной, чернь явила, на что готова и, хуже того, на что способна. Сколько унес ненасытный мор в небытие безымянных душ — кто это знает и кто сочтет? Ах, дешева в России жизнь!
Простите. Я вновь твержу все то же — безумие жить как ни в чем не бывало, меж тем как соотчичи наши все копят в недрах сердец обиду и ярость.
Но в этом безумии мы упорствовали, оно для нас стало почти привычным. Четыре года правления Павла разве не кажутся неизбежными и — сколь ни горько! — почти естественными?
Время опомниться и прозреть. Тот, кто захочет нас уязвить, скажет, что минувшей весной мы шли по якобинскому следу, облитому монаршею кровью. Но что совершилось, то совершилось. Право же, смерть от удара Брута более подобает Цезарю, нежели гибель на эшафоте под клики остервенелых подданных. Пусть недруги радостно укорят нашего юного государя в грехе попустительства, я воздержусь. Павел безжалостно преградил России путь ее, он самовольно остановил ее развитие, больше того — направил вспять. Если и впрямь молва не лжива и сын дозволил, замкнув уста, переступить чрез это препятствие, то, может быть, здесь таилось мужество, которое другим недоступно, некая высшая самоотверженность? История судит об избраннике не по первому, а по второму шагу, как и о ле€тах, в которых ему назначено Промыслом жить и действовать. Мы еще удивим человечество.
Довольно. Сей громоносный осьмнадцатый закончил круг свой, пусть царская смерть, ужасная, но никем не оплаканная, станет прощальной его конвульсией. Что бы то ни было, но ведь в нем мы появились на Божий свет, в нем встретили однажды друг друга и поняли — со страхом и счастьем, — сколь быстротечные наши жизни зависимы одна от другой. Будем за то ему благодарны.
Забудем ту мартовскую ночь, последнюю ночь почившего деспота. Хочу рассказать о совсем иной, недавней — я до зари метался, но сон не шел, до него ли было? Думал с восторгом и упоением лишь об одном: какое же чудо — создание, подобное Вам. Стоило побледнеть небесам, я выбежал на спящую улицу, дом показался мне темницей, дольше не мог я в нем оставаться.
Пуст и торжествен был Петербург в пленительный предрассветный час. Город был схож с предстоявшей мне жизнью, с громадным еще непочатым веком, в котором так много должны мы содеять. Во всем, что дышало окрест меня, было присутствие начала. Начало дня. Начало столетия. Начало всего, что должно возникнуть.
Я думал о том, как я еще молод, о том, как долог еще мой путь. Что жребий мой, верно, отмечен Богом, если любовь к совершенной женщине сливается с любовью к стране, которой отныне я не стыжусь. Какая фортуна, что нашей младости выпало столь же младое время!
Еще никогда с такою дрожью, с таким волненьем я не смотрел на несравненную першпективу. Сияла стрела адмиралтейства, а из него, как из колчана, веером вырывались наружу и разлетались в разные стороны сразу и Невский и Вознесенский. Первые нежные лучи, как кистью, золотили волну. Чудилось, что на всей земле, сколько ее ни есть на свете под этим неоглядным шатром, бодрствую лишь я один, чтобы стеречь, как зеницу ока, тайну и волшебство Петербурга.
Он так еще юн! Для города век то же, что миг для человека. Но, право, он станет еще прекрасней в тот день, когда Вы в него вернетесь. «Моей надежды робкий глас, быть может, досягнет до Вас», и Вы не обманете упованья.
Надежда… Благословенное слово! Пусть осенит оно нашу жизнь, наш царственный город, нашу Россию. Покойный отец все повторял: «с надеждою легче оставить мир». Нынче я смог бы ему ответить: с надеждою в нем сладостно жить…
Письмо третье
3 ноября 1904
Санкт-Петербург
Прежде всего, дорогой отец, прошу извинить непутевого сына за то, что он задержался с ответом. Тому существуют свои причины. И самая первая — та, что ответить мне было непросто, совсем непросто. Отделаться отпиской негоже, Ваше письмо ее не заслуживало, решиться на честный разговор не так-то легко, заранее знаешь, что все равно не будешь услышан, а исповеди мне не даются. С детства привык к укорам в скрытности.
Впрочем, они были нечасты. Вы не вымогали признаний. И никогда не читали нотаций. Поэтому начну с благодарности.
Спасибо Вам за Ваше письмо. Вкушая отдых в веселой Вене, слушая Моцарта и Вальдтойфеля (первого — с молитвенным трепетом, второго — с истинным удовольствием), Вы оторвались от их мелодий, чтоб изложить мне все, что Вы думаете.
Итак, повторюсь, я благодарен. Не только за дары Вашей мудрости. За все. За беспечное малолетство, за отрочество без внешних забот, за юность в традициях нашего рода. Да, он скудеет, но ведь достойно.
С Вашим умеренным достатком Вы не жалели любых усилий, чтоб жизнь единственного потомка сложилась ничем не хуже Вашей и оказалась — во всех отношениях — столь же изящной и опрятной. Мне остаются лишь два-три шага, чтоб стать наконец адвокатом-тенором и совместить свой гражданский жар с парадом петербургских сезонов, а политические процессы — с плесканьем рук и бросаньем чепчиков вакхических дев и восторженных дам.
Нет спора, Вы вправе были рассчитывать на то, что однажды я Вас порадую. Ваша опека была тактичной, мои суждения Вы встречали не возражением, а улыбкой. Хотя, сказать по правде, полемику я предпочел бы Вашей иронии. Последняя безусловно обидней для неокрепшего самолюбия.
Эта усталая улыбка, полная грустного всеведенья, сопровождала всю мою молодость. У нас с Вами — не то что у Лермонтова — не было «горькой насмешки сына над промотавшимся отцом». Всегда — не таящая превосходства, горькая усмешка отца над глупым и запальчивым сыном. «Дружочек, теория стройна, но больно уж криво древо жизни».
Сначала я пытался, как мог, отстаивать свои убеждения. Мне было странно и непонятно, как можно отрицать столь бесстрастно то, что естественно и очевидно. Я объяснял это только тем, что плохо нахожу аргументы. Я простодушно не понимал, что истину чаще всего отвергают не потому, что ее не видят, а потому, что она неприятна.
Попробуйте сокрушить улыбку! Немыслим никакой поединок. Всего только раз Вы удостоили мой долгий сбивчивый монолог небрежной, презрительной оценки: «Какое невыносимое зелье! Две ложки возвышенной хомяковщины, четверть стакана густой желябовщины и несколько усыпительных унций немецко-еврейского марксизма. Поистине поносная смесь!»
Эта брюзгливая дегустация, похоже, исцелила меня от всякой надежды на понимание. Я не мечтал об единомыслии, но я и сочувствия не дождался. Вы строго соблюдали дистанцию.
Вы неслучайно мне объяснили Вашу неприязнь к Москве и предпочтительность Петербурга. Начали с шутки: Москва холмиста и соответственно — беспорядочна, а Петербург хорош прямотой. Потом признались — Вас утомляет это московское амикошонство, все петербуржцы лучше воспитаны.