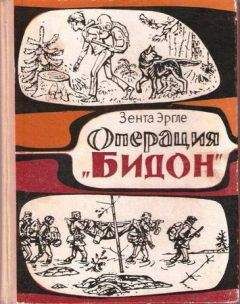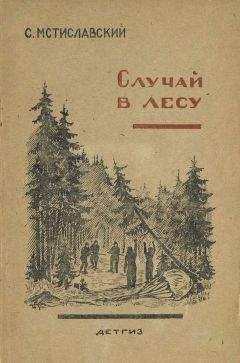Пётр Луцик - Добрые люди
— Так я пойду, ты заходи, если что.
И снова ушёл огородами, перескакивая арыки и конопляные заросли.
Отец пристроил крышку к гробу, всё сходилось, он крикнул Андрея, и они оттащили его к стене сарая, для обивки.
— Сыроватые доски. Тяжёлый.
С веранды мать позвала ужинать, оставив накрытый стол, тут же ушла на ферму, мрачная, прихватив ведро.
Под вечер Андрей выкатил мотоцикл через передние ворота, начинало темнеть, поехал улицей к клубу. Ожидали кино, в основном молодежь: девчата, несколько парней. Андрей прошёл в клуб, здороваясь за руку с парнями, осмотрел небольшое фойе, пустой зрительный зал, выходя заметил Фатиму, в красном бархатном платье с чёрным узким галстуком-шнурком. Она стояла с подружкой возле его «Урала», переговариваясь, осматривая улицу.
Андрей уже завёл мотоцикл, тогда она чуть покосилась в его сторону, чуть улыбнувшись, показав белые зубы, но тут же отвернулась.
«Урал», стрекоча, взобрался на самый гребень холма. Открылось неровное поле с полоской лесополосы. Совсем далеко село в тучах солнце, да шум одинокого трактора.
Андрей проехал поле, дорога запетляла и вдруг сорвалась с холма вниз к реке. Он спустился в долину, не включая света, проехал вдоль реки, остановился у переката.
Прошёл к воде, окунул ладони, посидел, изредка оборачиваясь, вернулся к мотоциклу, привалившись на задок люльки. Тут вдруг заметил два мотоцикла, сливающиеся с одинокими кустами невысокой волчьей ягоды. Один из них завёлся и подъехал. За рулём сидел малознакомый татарин, в люльке Хусаин, похожий на вождя индейского племени. Хусаин вылез, и они пошли с Андреем вдоль берега. Андрей руки в карманах, Хусаин сцепил их за спиной. Они прошли до первого поворота реки, постояли, о чём-то разговаривая, пожали руки, пошли обратно.
— Только ещё одно условие, — замявшись, сказал Хусаин. — Может, оно самое главное.
Они остановились, глядя друг на друга. Андрей в глаза, Хусаин чуть в сторону.
— Ты должен жениться на любой нашей девушке, на татарке, тогда мы поверим. Любую выбирай и женись.
— Что, прямо завтра? — рассмеялся Андрей.
— Зачем завтра, ты слово дай, сначала посмотришь, выберешь?
— А если не согласится?
— Э, что говоришь, главное, незамужняя чтоб, — Хусаин тоже рассмеялся.
Они пожали друг другу ещё раз руки. Хусаин похлопал его по спине и тут же уехал. Было совсем темно.
Паньку хоронили всем селом, шли и старые и малые. Много приехало из города. Мужики попеременно несли гроб, подымаясь в гору, к кладбищу. Убивалась мать Панина страшно, больше у неё детей не было. Панька лежал в чёрном костюме с впалым животом и в белой рубахе, помолодевший, с белой чёлкой, неестественно шевелящейся на ветру. Поставили ему крест.
Вечером к Андрею пришёл Демидов. Ещё раз помянули Паньку, выпив водки. Демидов стал рассказывать.
— Вавиловы согласны, Рязановы, Кукушкины, Некрасовы, Лыковы, Потехины…
— И татары тоже согласны, — тихо добавил Андрей.— Тогда уж по утру, скажи всем.
Съезжались часов в шесть утра, хоронясь, через мост и в степь, к дальним холмам, где стоял летний домик для пастухов.
Четверо парней остались на холмах, заперев мотоциклами спуск в долину
Собралось восемнадцать человек. Тихо переговаривались друг с другом о погоде, о хозяйстве, подъехали трое татар в «Москвиче». Говорил Падуров.
Дело так выходит, что уже если что случится, то не Андрею Николаевичу, — назвал он Андрея по имени-отчеству, — ответ держать, а нам всем. И уже сколько нас здесь есть, то больше никому знать не надо. Каждый здесь и за себя, и за всю свою родню ответчик. Как выйдет, я не знаю, но всё же сообща решать будем и поклянёмся же здесь в этом раз и навсегда. Андрей Николаевич вроде как за голову, за атамана, ну а мы полковники при нём, попробуем и такую жизнь, может, выйдет чего. Дело-то страшное, потому мы и смерти, случись что, бояться не должны. Пусть же Епанчин перед нами поклянётся, что всё будет по совести. Большие дела с нашего согласия, и ничего против воли нашей он преступать не будет. Пусть поклянётся, а потом и мы поклянёмся ему в помощи и повиновении, ему, и сами промеж собой. Так вот я думаю, и без этого нам нельзя.
— Чем же мне клясться? — смутился Андрей, выйдя на середину избы.
Все молчали. Выбрался из угла старик Потехин, развязывая клеёнчатый пакет.
— Думали мы с Падуровым ночью-то, вроде клясться не на чем, да вот нашлось, что и осталось, — вынул голубой угол бархата, шитый потемневшей золотой нитью. Маленькое знамя.
— Вымпел вроде остался, нашего полка.
Все сгрудились, ощупывая тяжёлую постаревшую ткань.
— На царский флаг, что ли, клясться? — весело сказал кто-то.
— Дура, — ответил Демидов, — это казачье знамя.
— Клянусь.
Говорил каждый, вставая на оба колена, и целовал угол знамени.
— И детьми, и жизнью своей.
— Клянусь.
— Клянусь.
Народу собралось столько, что в клубе выборы было проводить нереально. Решили провести на улице. Вынесли из клуба лавки и стулья, принесли стулья с конторы, с домов. Перед крыльцом поставили президиум из трёх столов под красной тканью.
Сидел парторг Симавин, главный инженер, комсомольский секретарь, завклуба Курочкин, бухгалтер Насонова и бригадир третьей бригады Потехин, от района приехал Калюжный.
Выступил с отчётным докладом главный инженер Щербинин, малый лет сорока пяти, коренастый и плотный, в вечной кожаной куртке. Он, как временно исполняющий, бойко зачитал итоги.
Выступил Симавин, наговорил что-то бессвязно, поздравив всех, сел. Слово взял третий секретарь райкома, пошутив немного, предложил вести избрание председателя, назвав двух кандидатов: Щербинина и от района, и представил худощавого мужчину с хлыщеватым лицом в светлом костюме. Мужчина, лет тридцати, аккуратного интеллигентного вида, поднялся со второго ряда, скромно поклонившись. Зачитали характеристики и достоинства каждого. Едва он кончил, из средних рядов поднялся высоченный Володька Смогин, вертя кудрявой головой.
Володька Смогин, зверского вида человек, каждое лето или осень брал отпуск и пропадал неизвестно где, месяца по два. Один раз его не было полгода. Вернулся он с перерезанным глубокими шрамами лицом, но с деньгами. Говорили, что он был в кавказском плену, говорили, что они с кумом грабили Сызранскую дорогу, грабили Гурьевскую дорогу, грабили и по Башкирии. Но Володька ничего не рассказывал.
— Что я скажу вам, — громко говорил он. — Везде я бывал, и на севере, и на юге, и посередине. Везде хорошо, где нас нет.
На него стал прикрикивать Симагин, но Володька говорил недолго.
— Хуже всех мы живем в нашей великой родине, вроде нищих, — и сел.
Поднялся Митренко и предложил в председатели Андрея Епанчина. Народ сидел и стоял тихо, никто не переговаривался.
— Это что, ваше предложение? — сказал насторожившийся Калюжный.
— А что, не имею права?
Все так же тихо молчали.
— Имеете. Почему же…
За Щербинина поднялось двадцать шесть рук. За райкомовца восемнадцать.
Робко зачитали фамилию Епанчина. И все, сколько было рук поднялись за него. Насчитали за тысячу голосов. Всё так же молча, так что в президиуме было неудобно переговариваться. Все молча смотрели на них. Епанчин вышел к президиуму и встал напротив Калюжного, протянул руку. Калюжный помялся, Андрей продолжал держать руку, подняв её выше, чтоб всем её было видно, и тогда Калюжный пожал, смутившись, смотря на Щербинина
Гуляли у Демидовых. Василий Андреевич по такому делу зарезал свинью, наготовили закусок, как на свадьбу. Когда стол был накрыт, женщин услали, оставив жену Василия Андреевича и старуху Булгакову обносить гостей. Поздравляли друг друга, поздравляли и пили за нового атамана, Андрея Епанчина. Сафронов с Вавиловым по очереди играли на гармошке. Разошлись за полночь. Уговорившись, что быть новому парторгу, на случай если Андрюшку в районе утверждать заартачатся.
На парторга горе обрушилось сразу в одночасье.
Первое — почти фантастические выборы водителя Андрюшки Епанчина.
Второе случилось через сутки и сломало его навсегда, так что он и не знал, как жить дальше.
Вечером следующего дня Симавин решил съездить на рыбалку, чтобы на свежем воздухе поразмышлять о прошедших выборах.
Он, крутясь на своей резиновой лодке, поставил сети, и вдаль камышей, и поперёк течения. Решил заехать и подтрусить сена из колхозной копны, для двух своих очумевших коз. Едва он нагрузил задок мотоцикла, как появился общественный колхозный контроль, и на него составили акт кражи, обыскали двор, найдя в сарае шесть мешков краденой пшеницы, и акт усугубился. Симавин был так удивлён и поражён, что не мог возразить.