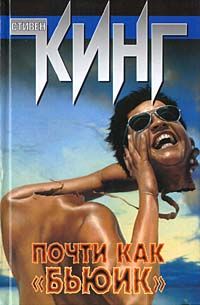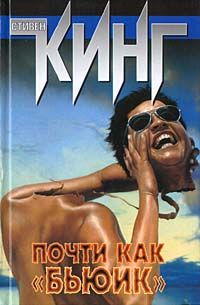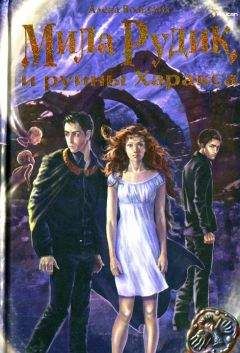Василий Аксенов - Блюз 116-го маршрута
Ни хор, ни корифей не обращали внимания на бывшего заложника их героя. Никому я не был нужен, кроме Гореликов. Они подбегают: “Стас, ты в порядке?” — “Айм-файн”, — отвечаю я в соответствии с благоприобретенной за океаном привычкой. Всегда отвечай “файн” и будешь “файн”. Незабываемая Любка счастливо смеется. Во рту у нее всё еще полно жемчужин. “Как тебе нравится этот неисправимый Стас Ваксино? Из тысяч московских водителей троллейбуса он нашел одного сумасшедшего! Город полнится слухами о невменяемом водителе троллейбуса, однако никто на него не наталкивался, кроме тебя, Стас Ваксино!” — “Ну, пошли! — говоришь ты, Игорь. — Боюсь, как бы там наша водка не нагрелась: холодильник хандрит”. — “Надо все-таки узнать, в каком состоянии этот хмырь. Этот хор вокруг шумит, как стая грачей, и никто не озаботится, нужна ли помощь этому хмырю, переливание крови там или что-то еще”.
Любка продолжает веселиться: “Посмотрите на этого Стаса Ваксино! Подонок хотел из него сделать котлету своим мачете, а он беспокоится о его состоянии, каков либерал!”.
“О каком еще к чертям мачете ты говоришь, Любка?”.
“А что же он сжимает в правой руке? Может быть, ты хочешь сказать, что это просто преувеличенная селедка?”
Я смотрю туда, куда она показывает. Штука в руке Кашамова не похожа на преувеличенную селедку.
“Ну, пошли отсюда, дядя Стас”, — говорит кто-то еще за моей спиной. Я оборачиваюсь и вижу высокого молодого человека, сильного, элегантного, “дэбонэр”, что называется. Не без труда узнаю сына Горелика, Славку, того самого, кто все эти годы жил в моей памяти как вездесущий тощий подросток с ленинградской Набережной Крузенштерна.
“Славка!”
“Стас!”
Мы обнимаемся.
Ты, Игорь, суживаешь глаза. “Я же обещал тебе сюрприз, вот получай!”.
Они всё еще живут в одном из цэковских домов возле Гоголевского бульвара. Шикарное пристанище даже по американским стандарта. Раньше подъезд круглые сутки охранялся милицией. Теперь охраны нет, а потому основательно несет мочой. Внутри их большой квартиры приметы упадка были едва заметны, но все-таки заметны. Многие вещи, принадлежавшие к ушедшей советской эпохе, в частности всякие западные штучки, к которым хозяева имели доступ через свои “закрытые распределители”, сейчас выглядели жалко. Одна штука, впрочем, несла на себе приметы неопровержимо высокого класса. Это был антикварный бильярдный стол в глубине анфилады.
Ты, Игорь, хихикаешь: “Ну, Стас, как себя чувствуешь в доме банкрота? Ну да, наша корпорация объявила дефолт, так что мы все потеряли кредит. Хочешь, я расскажу тебе, как это случилось?”. И ты рассказываешь мне простую, хотя немного и апокалиптическую, во всяком случае с точки зрения коммуниста, историю.
Утром 21 августа 1991 года ты, Игорь, сидел в своем кабинете в святая святых на Старой площади. Снаружи до тебя доносился рокот толпы. “Финита ля комедия, — думал ты не без злорадства. — Вы, товарищи, не последовали советам ваших наемных интеллектуалов по модернизации общества, и теперь ваше мрачное величие обоссалось и обоссано”.
Тут без всякого предупреждения двери кабинета распахнулись, и трое парней славкиного возраста, джинсы и сникерсы, вошли в cамой небрежной манере. “Сваливай отсюда, партийная крыса!” — сказали они попросту. Ни драматизма, ни злобы не слышалось в этом историческом вердикте. Для них это всё само собой разумелось. Да и “крысой” они не хотели обидеть. Для них все, кто сидел в этом здании, были крысами без всяких исключений и тонкостей. И они правы, думал ты, Игорь, во время этих быстрых минут, мы все крысы, и совсем неважно, кто что сделал для того, чтобы расширить “границы терпимости”. Они просто хотели, чтобы все слиняли со всеми нашими крысиными перестройками. “Наша цивилизация завершилась, мой друг”.
“Ваша цивилизация?” — спросил я.
Он уточнил: “Моя и твоя. Цивилизация партии и антипартии была кончена”.
“Хм”, — сказал тут Славка.
“Прекрати эти свои хм! Уволь меня от твоих хмычек! Я сыт ими по горло!” — ты, Игорь, взорвался почти в истерике.
Любка Незабываемая вышла из столовой. “Ужин готов, джентльмены!”
Мы сидим вокруг стола. Любкино кулинарное искусство как всегда на высоте. Блаженство ее нежной с хрустящей корочкой кулебяки омывается водкой, настоенной на крымских травах; Непревзойденная Любка! Сколько ей лет? Когда Игорь представил ее нашей банде в Коктебеле, ей было 19. Через год она родила Славку. Ей, стало быть, еще нет 50, может быть 47, вроде этого. Иногда она выглядит абсолютно молодой, абсолютно! Юной и счастливой! Незабываемой и Неувядаемой!
Что касается Славки, то он больше не шалит со своими хм-хм. Напротив, благосклонно общается со старым поколением. Рассказывает городские шутки про “новых русских”. Мне нравятся эти хохмы про автомат-калькулятор в багажнике бенца. “Вот тебе, Стас, чистый романтизм”, — говоришь ты, Игорь. — Цикл пост-пост-байронизма завершен!” Иногда ты бросаешь боковые взгляды в глубь своих анфилад. Гигантский бульдог бильярдного стола отражается в твоих зрачках. “Я вижу, ты почти всё понимаешь, Стас. Да-да, я тоже завершил цикл своих трансформаций. Пока ты был вдалеке от родины, я стал гроссмейстером бильярда”.
Ты рассказываешь о своей последней трансформации. Вся ваша компания высоколобых партийцев пренебрегала ленинской теорией. В ЦК вы просто халтурили. Львиную долю своего времени вы проводили в партийных санаториях, стоя со своими киями вокруг зеленых суконных поверхностей. День-деньской все вы играли на бильярде, и ты, Игорь, был неопровержимым чемпионом этого как бы несуществующего клуба.
Апокалиптические события 91-го не только разрушили твой величественный мир, они также способствовали высвобождению твоего второго “я” выдающегося бильярдиста; вот вам и диалектика! “В той комнате, — ты киваешь в глубину своего апартамента, — собирается самый эксклюзивный клуб городских игроков. Вот так-то, Стас. Бог даст день, Бог даст пищу”. Интересно, что в течение всего ужина никто из семьи не задал мне ни единого вопроса о моей жизни в отдаленной стране. В постсоветское время странное равнодушие к Америке стало распространяться среди москвичей. Публика почему-то полагала, что она знает о Штатах всё. Тот факт, что человек живет в Америке, как бы говорил сам за себя. Фактически единственный личный вопрос был задан Любкой, когда она возилась с моим подбитым глазом: “Больно, Стас?”. Заботливые ее руки — время нанесло им урон больше, чем другим частям тела, — превратили мой фонарь в размазанное сине-оранжевое украшение сродни цветовым пятнам Кандинского. И всё же это было незабываемо — ее пальцы вокруг моего глаза.
Русская выпивка без философии считается пустой тратой времени. И наша не была исключением. Мы истощили уже все запасы доброго юмора, легкого сарказма и легкомысленных воспоминаний. Несмотря на ароматную водку и благодаря огромному количеству еды, мы становились всё трезвее и сумрачней; что называется, обкушались. Теперь мы поглядывали друг на друга как бы в предвкушении того, что называется “серьезным разговором”. Ребро болело, и философия становилась неизбежной.
“Что же, Игорь? Что же ты все-таки думаешь обо всем этом анекдоте?”
“Каком анекдоте?”
“Об империи, которая собиралась существовать вечно, но не дотянула и до 75 лет, перед тем как развалиться на куски?”
“Эта штука не дотягивает до анекдота, это история, а об истории и говорить нечего”.
“Иными словами, нет никакого смысла в подсчете невинных жертв и невинных злодеев, так что ли?”
“Есть только слепая удача и не менее слепая беда, вот что такое история. Как у вас в Америке говорят, right time and right place, wrong time and wrong place. А фактически хаотические завихрения на пути к окончательной инвентаризации”.
“И стало быть, стоя вокруг бильярдного стола, ваш клуб будет ждать ангела с Благой Вестью: Жизнь Есть Форма Существования Белковых Тел; так что ли?”
“Верная догадка, мой милый Стас Ваксино, властитель дум нашего поколения”.
Провожая меня, Любка Незабываемая жарко прошептала прямо мне в ухо, которое тоже слегка ныло из солидарности с ребром и глазом: “Не знаю насчет дум нашего поколения, но некоторые старые девушки до сих пор тебя помнят, мой Стас Ваксино”.
Славка подвез меня до дому в своем “ягуаре”, чей задок слегка провисал, как у стареющей, хотя всё еще в активном бизнесе, бляди. “Не беспокойся, Стае, через неделю я обменяю его на почти новый “порше”, — сказал он мне по-мальчишески. “Я не беспокоюсь”, — не очень-то хорошо ответил я.
Когда-то я любил его как своего собственного сына. Когда-то он приезжал ко мне из Ленинграда и немедленно интересовался последней доставкой нелегальной литературы из-за бугра. “Питер нуждается в литературе!”, — восклицал он с глазами полными пылающих убеждений. — Нам нужна настоящая литература по любому предмету: искусство, философия, религиозная мысль, права человека!” Он полагал себя революционером, подпольным связным. Встретив его сегодня, я был смущен и пристыжен оттого, что я так мало думал о нем там, в Америке. Сказать по правде, у него не было специального сегмента в моей памяти. Ублюдок, подумал я о себе, ты больше думаешь о персонажах своих книг, чем о реальной близкой душе.