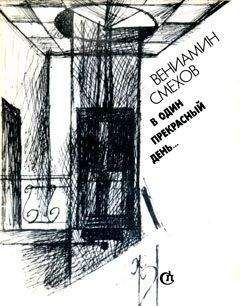Леонид Зорин - Троянский конь
И вдруг какофония прекратилась, сухое, пересохшее горло наполнилось глотком тишины. Бесформенное, стремительно тающее, украденное у жизни время вновь обрело и облик и смысл, свою насыщенность и протяженность. Возможно, что все это произошло со мною одним, но это случилось. Комнату солнечно осветило новое женское лицо. Мысленно я повторил ее имя, будто дохнувшее на меня запахом фруктового сада. В тот миг я не понял, ни сколько ей лет, ни впрямь ли такая певучая магия исходит от этого низкого голоса, от дымчатых глаз, от ломких пальцев — судьба прогремела и оглушила, а участь моя была решена.
Но оказалось, не я один так восприимчив и так приметлив. Пока я отыскивал к ней тропинку, искал подходящую интонацию, Р. уже начал свою игру, окучивал, наводил мосты. Он даже представил меня на правах едва ли не давнего собеседника — великодушный, щедрый подарок!
Я с завистью, смешанной с восхищением, прислушивался к тому, как небрежно и как уверенно он сплетает привычное словесное кружево, как он жонглирует ее именем.
— Да, ваше имя запоминается, — ронял он с княжеской снисходительностью, — в нем есть не только своя мелодия, в нем есть еще и стремление ввысь, волнующая попытка полета. Его происхождение ясно и вызывает мое уважение. Однажды Вера не пожелала остаться Верой, ее потянуло от скромной комнатки, от абажура, от трогательной кровати в углу, от фотографий, глядящих со стен, в еще неведомое пространство. Оно изысканней и живописней. Нет опостылевшей провинциальности и надоевших ограничений, триады — Вера, Надежда, Любовь. Да, разумеется — Вероника! Сразу же слышится звон бокалов, старинная гальская куртуазия, томительная терпкость и пряность. Нет больше Веры — есть Вероника. Нет быта — изящество и артистизм. Ушла обыденность, и явилась так красящая женщину тайна.
Она с удовольствием хохотала, потом промолвила:
— Убедили. Вы — безусловно мастер слова.
Р. поклонился и возразил:
— Скорей, инкрустатор и полировщик. Моя епархия — блеск и лоск. А недра — это дело Певцова. Он — землекоп, всегда погруженный во глубину словесных руд, духовных пластов и сокрытых смыслов. Пока я прыгаю по верхам, он героически сводит звенья и сохраняет нам связь времен. Я уж не говорю о том, что он человек, отягченный замыслом.
Чрезмерная щедрость его похвал меня уязвила — я сразу расслышал не очень-то дружелюбный смешок. А главное, я не мог не увидеть: его актерское существо, всегда вырывавшееся наружу при появлении нового зрителя, давно так безудержно не фонтанировало. Тем более, новым и чутким зрителем на сей раз была прекрасная дама, непозволительно притягательная. Тут было для кого постараться!
Но мне от этой закономерности стало не легче, а тяжелей. Я слишком хорошо его знал и сразу просек: “глубина моих руд” меня преподносит не в лучшем виде, в то время как кокетливый вздох по поводу своего верхоглядства лишь добавляет ему обаяния. Я вновь с раздражением наблюдал, как он искусно тасует карты, привычно распределяет роли. С одной стороны — тяжеловесный, неповоротливый господин, к тому же обремененный амбициями, — барон фон Грюнвальдус, сидящий на камне, согнувшийся под тяжестью замысла. Однажды представлю на суд поколений свое грандиозное полотно. С другой стороны — лишенный претензий гуляка праздный, веселый, легкий, певчая птица, клюет по зернышку, исполнен моцартианской беспечности, всем от него — и свет и радость.
Смешно отрицать — горчичное семя упало на взрыхленную почву. И больше всего я был зол на себя. В который уж раз получил урок. Нельзя никогда никому рассказывать о том, что собираешься сделать. Когда-то, переполненный странным, несвойственным мне воодушевлением, поддался неодолимой потребности сказать ему о важном событии, которое, возможно, направит судьбу мою по новому руслу.
Я, как юнец, упустил из виду, что это событие важно лишь мне, что лишь для меня оно — событие, что всем остальным оно безразлично, как говорится — до фонаря. И это еще не самое худшее. Гораздо противней, что мой секрет, когда он перестает быть секретом, рискует стать предметом насмешки. И справедливой — в нем есть претензия. Меж тем, ничего нет смешнее претензии.
Я рассказал, что во мне зародился счастливый, неожиданный замысел. Великое дело! Ну что тут такого? Обычные трудовые будни. Но я преисполнился непозволительным, каким-то высокопарным сознанием его исключительности и недюжинности. Есть замысел, очевидно заслуживающий того, чтоб посвятить ему жизнь, во всяком случае, долгие годы.
Но мало того, я постыдно выболтал, что связан он с Гоголем, дерзкий автор готов потревожить сакральную тень. После подобного оглашения своей голубой заповеданной тайны все мои будущие усилия были исходно обречены. Я выдал свой замысел на поругание.
А между тем, с каким нетерпением, с какой неизведанной прежде дрожью я приступал к своему послушанию. Мою надежду питала уверенность, что я безошибочно определил свое изначальное положение. Я не ученый, не академик, я не исследователь, не крот. Я — сочинитель, тяну свою ниточку, не знаю, куда она приведет. Пусть маленький, неприметный, безвестный, но все же — собрат моего героя. Не домогаюсь конечных истин, я только гадаю и не обижусь, если разгадка, подобно яблоку, не рухнет с ветки в мою ладонь.
Я сам все испортил. И тем больнее, что нынче доставшаяся мне роль смотрелась особенно неприглядно, знакомая пьеска была разыграна в присутствии третьего лица. И это третье лицо было женщиной, которая меня оглушила. Как только она на меня взглянула и выронила первое слово, я понял, что жизнь моя изменилась. Я безошибочно это понял по острой и тревожной печали, являющейся в такую минуту. Ты ждал этой встречи долгие годы — ну вот, она грянула наконец, а что принесет тебе — неизвестно.
Потом уже, на обратном пути, я неприязненно пробурчал:
— Похоже, что нынче ты был в ударе. У вдохновения есть причина?
Он, точно нехотя, отозвался:
— Только начни — само пойдет. Сказывается век автоматики.
Какое-то время шагали молча. И вдруг, кляня себя за несдержанность, я, неожиданно для себя, выдохнул:
— Как это Пушкин сказал?.. “Быть вашим мужем — да это рай!” Не так он сказал, иначе, я знаю, но смысл был именно такой.
Р. отозвался на это признание не сразу, выдержал длинную паузу. Такое с ним случалось нечасто. Мне показалось, что он догоняет какую-то упорхнувшую мысль.
И вдруг негромко проговорил:
— Да, смысл был именно такой. Но годы спустя о той же нимфе он высказался не столь возвышенно. И у меня и у тебя — не слишком радостный брачный опыт. Остерегает от шумных восторгов. Печально, но ни мне, ни тебе такой институт, как семья, не показан. Супружество — это работа, творчество, если еще точнее — соавторство. А мы с тобой два вздорных кота со стойкой склонностью к отщепенству, носимся сами по себе. Возможно, что я сгущаю краски, в конце концов, мы других не хуже, но для соавторства не приспособлены. Стакан мой мал, но пью из него. Готов даже пить за здоровье Мэри, но Мэри его я не предложу. Пусть Мэри заводит свою посуду. Так будет лучше и гигиеничней. И для меня и для нее.
Но, что занятно, мы вновь совпали. Ты прав: эта женщина — сюжет.
* * *Итак, нас стало не двое, а трое. Троичность, троица, триединство. Этакий тройственный союз. Двое мужчин и Прекрасная Дама. Мы мысленно очертили границу и словно негласно договорились, что не дерзнем ее нарушать. Эта изысканная игра в интеллектуальную дружбу — а мы вели ее не без изящества — какое-то время давала возможность поддерживать шаткое равновесие. Естественно, до поры до времени.
Люди сбиваются в кучи, в стаи. Можно — миролюбивей: “в компании”. Можно — напыщеннее: “в содружества”. Звучит и значительней и весомей. Рождаются странные соединения. Таким оказалось и наше трио. Заметьте, я не сказал: треугольник. Острых углов мы избегали. Предпочитали округлую сферу. Она поддерживала гармонию незамутненного равновесия. Двое отнюдь не старых мужчин и привлекательная дама, при этом — никакого конфликта, вызванного тайным соперничеством и необъявленной войной. Мы дружим. Нам втроем хорошо. Все выглядит весьма благородно, почти в аристократическом стиле. Эта изящная игра в товарищество нам даже нравится. Она не отягощена страстями. Мы, безусловно, милы друг другу. Что называется — импонируем.
Беда только в том, что любая игра всегда имеет свои пределы. Однажды перестает быть игрой.
К тому же мне не на что было рассчитывать. Во-первых, я плохо владел собою. А во-вторых, я был самоедом. Господь и родители наградили опасной склонностью видеть мир как обещание катастрофы, себя же — как мишень его ярости. Все стрелы направлены лишь в меня. Это не делало мой характер ни легким для меня самого, ни привлекательным для общения. Пространство вокруг меня, большей частью, было свободно, народ не скапливался. Тем жарче грело меня сознание, что общий любимчик ко мне потянулся. Стало быть, есть во мне свой рафинад.