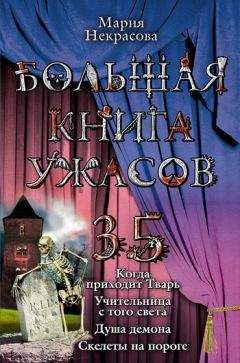Хуан Саэр - Рассказы
Как раз к десерту или когда они перейдут в гостиную выкурить по трубке — молодой инспектор мог бы, вероятно, курить сигареты со светлым табаком, так, пожалуй, будет правдоподобнее, — и посмаковать single malt или арманьяк прошлого века, профессиональные навыки возобладают, и четыре расследователя или, если хотите, три расследователя и биограф смогут припомнить кое-какие из недавних криминальных дел, а затем перейти к обсуждению ужасного преступления, которое несколько дней назад взволновало не только Англию, но и, как выражаются те, кто допускает злоупотребление языком, весь цивилизованный мир: медсестра родильного дома, расположенного к западу, или к югу, или к северу от Лондона — в общем, в немногих часах езды от столицы по железной дороге, — отравила, видимо в приступе безумия, шестнадцать новорожденных младенцев и покончила с собой. Радио и газеты только об этом и говорят; в мировых анналах преступлений против частных лиц никогда не наблюдалось более чудовищного злодеяния. Правительство и даже королевский дом, как поговаривают, могут вмешаться в это дело.
Здесь появится ключевой персонаж всей истории, один из представителей высшей английской знати, принадлежащий к тем немногим старинным родам, что могут, помимо Виндзоров, претендовать на трон. В этой точке повествования, подчиняясь требованиям интриги и тирании правдоподобия, я буду вынужден ввести некоторое количество информации по самой неинтересной и бессодержательной теме, к каковой, в силу тягостной обязанности, может обратиться писатель: английская аристократия. Перспектива эта настолько неутешительна, что могла бы заставить меня отказаться от замысла, но, думаю, мне удастся справиться с повествованием, не вдаваясь особенно во всякие детали, кроме одной — существеннейшей, ибо она явится основополагающим элементом интриги: два сына-подростка некоего лорда W. (назовем его так) могли бы с полным правом претендовать на английский престол. Все эти подробности, в случае если мой рассказ в стихах будет написан, станут всплывать в ходе застольной беседы в гостиной на Бейкер-стрит.
Полагаю, что Холмс в течение какого-то времени будет сидеть в молчании, с чуть отсутствующим видом, с полузакрытыми глазами, словно не слушая беседы.
Или словно — и это надо бы выразить поизящнее, акцентируя ритм стиха к финалу строфы и подыскивая соответствующие слова, чтобы подчеркнуть поэтическую мысль, не нарушая чрезмерным лирическим порывом плавности повествования, — из привычной дремоты, какой является жизнь человека, Холмс, погружаясь в старость, впал в глубочайшее оцепенение. Если когда-нибудь я решусь написать этот злополучный рассказ, задуманный, сказать по правде, довольно-таки давно, то постараюсь, чтобы в течение некоторого времени главные события сюжета прошествовали перед невозмутимым лицом Шерлока Холмса — тонкие поджатые губы, орлиный нос, чей острый изгиб сделается к старости заметнее, взлохмаченные, скорее серые, чем белые, волосы, весьма обильные, несмотря на минувшие годы, гладкая кожа, испещренная едва приметными, но многочисленными морщинками, придающими ей вид несколько увядший, но еще не старческий. Потухшая трубка застынет на ладони левой руки, а в правой уютно поместится бокал ар-маньяка, согреваемый прильнувшими к стеклу пальцами. Через какое-то время его прищуренные веки разомкнутся, и взгляд, отвлекшийся от всего внешнего из-за глубокой погруженности в себя, столь знакомой доктору Ватсону, вновь обратившись к вещам мира сего, встретится с глазами молодого инспектора, и Холмс, вспомнив некую деталь последнего момента, извлечет часы из верхнего кармана домашнего халата темно-зеленого бархата и озабоченно, с некоторым затруднением посмотрит, который час, прежде чем заговорит.
— Инспектор, — скажет он значительно, — вам, считающему, вероятно не без основания, что ваш талант не был в достаточной мере оценен Скотланд-Ярдом, а ваше повышение несправедливо откладывалось в сравнении с многими из ваших коллег, этой ночью, может быть, представится возможность вновь продемонстрировать, чего вы действительно стоите, и получить достойное вознаграждение за ваши заслуги.
Услышав эти слова, молодой инспектор широко раскроет глаза от удивления, но немедленно, с осуждающим видом, в порыве негодования бросит полный упрека взгляд на Лестрейда, а тот, приподнявшись со своего места за счет ничтожных остатков проворства, на которые еще способны его старые суставы, примется бормотать путаные и бессвязные возражения.
— Прошу вас, инспектор, не смущайтесь, — скажет Холмс с улыбкой примирения. — Наш старый друг Лестрейд не совершил никакой бестактности, и, поверьте, хотя мои способности угасают день ото дня, я еще владею некоторыми ресурсами в дедуктивном плане и, хоть мое зрение неуклонно слабеет, я еще не совсем утратил способности к наблюдению. Первая деталь, обусловившая мои рассуждения, основана на следующем обстоятельстве: в вашем возрасте вам полагалось бы подняться намного выше в иерархии того учреждения, в котором вы состоите на службе, что, разумеется, могло бы объясняться нехваткой таланта или профессиональных способностей. Тем не менее сами дела, которые мы обсуждали за ужином и по которым вы работали, решив их блестящим образом, и за перипетиями некоторых из них я имел возможность следить в свое время по газетам, где ни разу не упоминалось ваше имя, доказывают, что ваше повышение по службе неоднократно откладывалось не в силу вашей некомпетентности, а из-за привычной несправедливости бюрократических решений. И именно ваш любезный визит в этот вечер еще более наводит меня на мысль о вашем обоснованном недовольстве сей недопустимой волокитой. В первую очередь, ваш интерес к знакомству с доктором Ватсоном и со мной и то обстоятельство, что мужчина в полном расцвете умственных и физических сил выразил желание провести тихий вечер со стариками, свидетельствует, с психологической точки зрения, о безучастности к делам настоящего и идеализации прошлого, что нередко присуще людям, не вполне удовлетворенным своей судьбой или положением. Не отрицаю, что подобная склонность может быть вызвана факторами, ничего общего не имеющими с профессиональной жизнью, но вторая деталь, гораздо более решающая, убедила меня в обратном. На этой неделе все газеты поместили объявление о том, что сегодня вечером — а именно в эти минуты — в одном из отелей в центре города проходит ежегодный бал Скотланд-Ярда, о факте и о дате проведения которого вы не могли не быть осведомлены. Обращаю ваше внимание на то, что к моменту, когда вы предложили, чтобы планируемый нами ужин состоялся сегодня вечером, дата проведения бала уже была определена и объявлена во всеуслышание, и это позволяет мне заключить, что вы сознательно предпочли запереться среди этих старых стен с тремя стариками, вместо того чтобы разделить блистательное празднество с цветом лондонской полиции. Это предпочтение с вашей стороны утвердило меня в мысли, что в связи с вашим профессиональным положением вы ощущаете некоторую горечь, мешающую вам чувствовать себя комфортно среди коллег.
— Славное деяние должно ознаменоваться разнообразнейшим выражением восхищения со стороны присутствующих, — говорит Томатис с довольной и в то же время слегка скептической улыбкой в отношении подлинной ценности такого триумфа дедукции. И затем, обращаясь к слушателям с нарочито ученым видом, продолжает: — Легендарного героя следует представить не через психологические детали его истинной личности, в случайных обстоятельствах, а в формальном наборе сложившихся черт, позволяющем тотчас его распознать и принять в нем любой способ мысли и действия, каким бы неправдоподобным он ни казался, при условии, что он вписывается в схему такого распознавания. Но в то же время — сами увидите, если мне удастся перенести это на бумагу, — мой Шерлок Холмс восприимчив и к случайному стечению обстоятельств.
Собеседники улыбаются, но все по-разному. Лицо упомянутого Пичона Гарая озаряет блуждающая улыбка, будто слова Томатиса вызвали у него не непосредственные эмоции, а смутные воспоминания. Сольди же, напротив, помешивает кофе, видимо, ожидая, пока тот слегка остынет, поднимает голову, и его внимательный, усмехающийся взгляд мгновенно встречается с ироническим взором Томатиса; а у самого Нулы, не упустившего ни единого слова из рассказа, на лице едва ли уже не играет рассеянная улыбка, которая так и не проявится четко, поскольку последнюю минуту, даже не понимая зачем, он наблюдает за официантом: принеся заказ, тот вновь садится у входной двери и продолжает чтение вечерней газеты. В силу некого беспредметного любопытства, каким, с другой стороны, любопытство почти всегда и бывает, Нула пытается угадать, с какого раздела официант возобновил чтение, и прикидывает, что по количеству страниц, зажатых в левой руке, — их больше, чем оставшихся в правой, на которые обращен взор склонившего голову человека, — речь, скорее всего, идет о новостях спорта. Официант слишком очевидно принадлежит к типу «старого креола», чтобы страницы светской хроники или культурной афиши, рассчитанные скорее на представителей среднего класса и буржуазии и непосредственно предшествующие спортивному разделу в макете газеты, неизменном с незапамятных времен, могли привлечь его внимание, хотя Нула и не исключает, что больше всего он, возможно, интересуется некрологами, а потом — телепрограммой на завтра, как наиболее подходящей его возможностям досуга. Что касается погоды, то благодаря продолжающему лить плотному и шумному дождю, который сопровождается продолжительными молниями и нескончаемым громом, нетрудно проверить, оказался ли прогноз газеты «Ла Рехион», устаревший уже несколько часов назад, точным или ошибочным. Исходя из сдержанного вида и явного безразличия официанта к гремящей грозе, Нула отклоняет мысль о подобном археологическом любопытстве и выбирает спортивную страницу. И именно в эту минуту некое впечатление, занятное, хотя и хорошо знакомое от частого повторения, поглощает его полностью, как это уже не раз происходило за последнее время в самые различные моменты и в самых неожиданных местах — он может находиться дома или на улице, в городе или в поездке, один или в компании, в дневное время или ночное, утром или вечером, зимой или летом, в приятных или неприятных, серьезных или забавных обстоятельствах, — яркое, живое присутствие всего окружающего, словно выпуклость и плотность материи вдруг возросла, или будто каждая вещь, включенная в настоящее, внезапно обрела дополнительную долю реальности, явственно овладевает его чувствами и в силу некоего ассоциативного автоматизма вызывает в нем аналогичное подобие мысли, невербальное убеждение, каковое, если попытаться перевести его в слова, может быть сформулировано таким образом: Мир есть это и ничто иное, он не кажется ни враждебным, ни радушным, скорее нейтральным. И теперешнее впечатление, без всякого внематериального дополнения или продолжения — это действительно и есть я. Пока длится этот мир чистой материи, извергнувший из себя всякую легенду, мир ни дружественный, ни враждебный, а скорее ясный и сияющий для чувств, я защищен от времени, от боли, от смерти, хотя мне и пришлось отдать взамен привычное, радость, упоение. Но это начинает проходить, проходит. Уже прошло. За несколько секунд, пока длилась его отвлеченность, охватившая в плане явлений последние слова из отступления Томатиса, какие-то движения ложечки Сольди в чашке с кофе и легкое, задумчивое покачивание головы официанта, вызванное некой очевидностью чтения, переживание проявилось и вновь ушло, и улыбка Нулы, едва наметившись на губах, становится откровеннее и шире — чуть ли не избыточной, — когда его взгляд обращается к Томатису, который после взвешенной и чисто риторической паузы решает продолжить.