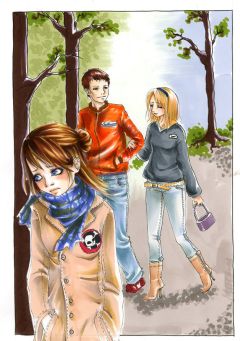Анатолий Знаменский - Хлебный год
Утром глядят хуторяне, Паранька опять свой плетень на горбу тянет к Аверьянову дому.
– Смотри, Паранька! – говорят. – До сотни плетей дойдет – не выживешь! Жди, дура, местного декрету!
Декрет скоро вышел, а земель в хуторском юрте не прибавилось. Когда поделили, вышло по две десятины на едока. Отец же, как это исстари водится в нашей фамилии, вовсе к дележу не поспел, но нимало этому не огорчился, поскольку еще до службы прошел военно-ремесленную школу, умел шить штаны и казачьи мундиры. Покрой, правда, был теперь новый, но соседи обносились, волокли старые суконные одеяла и какие-то австрийские мундиры, работы хоть отбавляй. При материной хате была еще приусадебная левада с вербами у речки, травы корове хватало. Начали жить-поживать и добра наживать.
В январе двадцать третьего года, в самое морозное безвременье являются в хату трое соседей. Фоломка Чикин, Финоген Топольсков и Захар Иванович Зарубин, председатель Совета. За ними Паранька Бухвостова несет под полой четверть самогону. Расселись чинно за столом, шапки на коленях мнут. А Паранька платок на шее распустила, сделала губы в нитку и ввертывает такой политический вопрос:
– Ты, Митрий, у нас в хуторе самый грамотный, писарем у Буденного был. Так вот ты и скажи: за что мы три года сражались и кровь свою проливали?
– За землю и волю, – отец говорит, – а еще – за интернационал.
– Ну, воли у нас хватает, верно, – кивает Паранька. – Интер-на-цанал тоже вроде бы поем по праздникам. А вот насчет земли – где она, земля?
– Какая есть – вся ваша, – отец отвечает резонно.
Не поймет, к чему весь этот служебный разговор, когда на столе полная четверть, а мать уже и соленых огурцов из погреба достала. Мужчины тоже со смущением покашливают, пустые граненые стаканы по столу пальцами проворачивают влево-вправо.
– Мы вот Захара Ивановича с собой захватили, потому у него в кармане хуторская печать, – торочит свое Паранька. – Разговор промеж себя вели. Бросай, Митрий, на машинке строчить, пострадай за общество. В округ поезжай, а нет – в самый Ростов, проси для хутора прирезки земельной. А мы за это тебя в секлетари Совета поставим и жалованье пересылать будем. Пока суд да дело…
– А откуда будут прирезать?
– А старый конный отвод! Станичный! На сто верст мимо тянется, и грань у самого хутора.
– Так то неделимая земля. Госфонд.
– О том и речь. Там одни стрепета с дудаками по ковылям бегают, а нам жить нечем.
– Вряд ли дадут, – покачал головой отец.
– Да власть-то наша? Ай нет? – горячится Паранька.
Отец на Захара Ивановича поглядел вопросительно. А тот усы разгладил, крякнул от непомерной заботы:
– Больше выхода нету, Митрий… Такое наше бедняцкое решение. Наливай!
Самогон сильно отдавал пригорелым суслом, и легко было понять, что готовила его Паранька. Сроду ничего у нее не получалось дома, а на всякие прожекты среди хуторян была зато первая мастерица. Однако тут и хозяйственные казаки в деле присутствовали, и сам Захар Иванович, так что дело получалось вполне серьезное.
На другой день отец продал материну ручную машинку и телка-летошника и с придачей лошадь купил. Правда, не пегую, а рыжую и молодую, резвую на ноги. Постелил мерзлого сенца в обшивни и тронулся в округ. Надежды на легкий успех не было, но в кармане полушубка лежало все-таки прошение хуторян, заверенное многими подписями бывших красных партизан и конармейцев, а также круглой сельсоветской печатью.
Мысль же насчет отвода была сама по себе дельной. В трех верстах от хутора с давних царских времен лежал отвод – непаханая аржанцовая и ковыльная степь, где когда-то выгуливались станичные косяки чистопородных кобылиц, поставлявшие всем окрестным казакам строевых коней на военную службу. Пасли их по обычаю головорезы-атарщики либо отчаянные неслужилые казаки-штрафники, жили зиму и лето в холодных, насквозь продуваемых балаганах, промышляя чем бог пошлет. Кроме них, на отвод никому доступа не было: каждый почитал за благо обойти подальше не только озорника-атарщика, но и полудикого табунного жеребца с кремневыми копытами и острыми зубами… Тут был свой, особый мир отдаленной, целинной дикости. Волки и те опасались кружить в этих местах. Сторожко и неусыпно охраняли покой кобылиц матерые жеребцы, взвиваясь на дыбы, распуская длинные гривы по ветру… Даже и табунщикам иной раз приходилось плохо, но у них с жеребцами были все же свои отношения. Еще когда молодой трехлеток, какой-нибудь Цветок или Буян содержался в загоне и только начинал показывать норов, заезжал к нему атарщик один на один с длинным арапником в руках. Вместо волосяного хлыстца в конец арапника на этот случай зашивалась тяжелая свинчатка. И с утра до полудня человек приучал зверя не только к свисту кнута, но и к голосу своему. А после, в степи, когда озверевший от воли и покорности кобыл, с налитыми кровью глазами жеребец только собирался еще налететь издали на показавшегося всадника, табунщик разматывал над головой арапник и подавал голос:
– Бу-я-ан!..
И жеребец понимал, что обознался. Делал рысистый полукруг и, опамятовшись, возвращался легкой иноходью к терпеливым кобылицам…
После войны, правда, вся эта степная полоса опустела, косяки перевелись, и только волки и лисы хозяйничали в густых ковылях, да изредка наезжали охотники на зайца, стрепета и длинноногого дудака.
Зима уже подходила к концу, и в стороне от дороги лежали те поля в волнистых снегах, просевших кое-где от первых проталин. А на буграх, обдутых ветрами, ворсились кулиги состарившегося от прошлых морозов ковыля.
Дальше дорога свернула от целинного отвода, пошла по хуторам и речным излукам, и отец начал подумывать о том, чтобы управиться в округе до больших оттепелей, пока не набухнут водой эти излуки и степные балки.
Окружные власти не знали, как поступить с прошением Колобродовского общества. Случай был, и верно, исключительный: в бывшей области Войска Донского кому-то не хватало пашни. В земельном отделе сидел худой горбоносый старичок в золотых очках, с серебристыми кудрями, как у артиста. Он поднял отца на смех:
– Не скажите кому другому, милейший… Казаки всю землю к рукам прибрали, а теперь и прирезки просят, смешно!
– Это, может, в понизовьях… Низовские донцы богатые, а верхние спокон веку в одном чирике трое ходят… – пытался отец вразумить ученого старичка.
– Что верхние, нижние… Все хороши, одного поля ягода!
Рыжая кобылка терпеливо дожидалась у отцова полчанина во дворе, и мешок овса, купленный по пути, уже подходил к концу. Выхода иного не было, как снова искать Степана Михайловича, как местного человека, знающего нужды хуторян.
Сукочев сидел теперь уж не в Особом отделе, который ликвидировали, а в Политическом управлении. Но особнячок был все тот же, знакомый. И Степан Михайлович – прежний.
– Ты чего пришел? – спрашивает. – С самогоном никак не управишься?
– Какой там самогон! – ругается отец. – Тут дело такое: весна подходит, а пахать у нас нечего. Хлеб-то нужен, ай нет? Как на этот счет власть размышляет?
– Хлеба на данный момент надо как можно больше! – говорит Степан Михайлович.
– В окружных инстанциях, видно, по-другому считают. Теперь не знаю уж, куда идти. Может, прямо в Москву, к всесоюзному старосте? Или – прямиком к Ленину?
– Ага. В Москве больше думать не о чем, как о ваших колобродовских делах… – вздохнул Степан Михайлович. – Пиши в губком, там наверняка разберутся.
– Так прошение у нас – в округ…
– Значит, перепиши. Вот бумага.
– А подписи?
– А сам и подпишешь. По поручению крестьян-хлеборобов секретарь Совета такой-то… Я как раз в Ростов еду, бумагу с собой и заберу. А ты домой командируйся. И вот чего… Ежели в хуторе потом хоть один самогонный аппарат обнаружу – голову оторву!
– Не могу, – сказал отец.
– Что – не можешь?
– С пустыми руками вертаться. Ждут же… Люди!
– Так побудь тут до моего возвращения. Недели две.
– А толк-то выйдет?
На это Степан Михайлович ничего не сказал, только пожал плечами и толстую папиросу закурил.
За-две недели отец проелся окончательно. Продал сани и упряжь, на лошади только уздечку оставил. И пришлось ему все же одолевать вешнюю воду в балках. Зато ехал он уже не один. Командировались в хутор еще два конных землемера для нарезки земли. И ехали они в седлах, а он охлюпкой, как бывало в юности, когда гонял с мальцами-соседями лошадей в ночное…
– Мало! – закричала Паранька Бухвостова на собрании. – Мало дают! Что это – по две десятины на подворье! Отвод большой, можно и побольше охватить на юбщую пользу!
У председателя народу битком. Слыханное ли дело, Советская власть, которая вроде бы собиралась у казаков вовсе землю забрать в пользу иногородних, вдруг задарма прирезала к хуторскому наделу двести десятин непаханого чернозема!
Сам председатель вроде охмелел от радости. А за Параньку – стыд. Руку поднял: