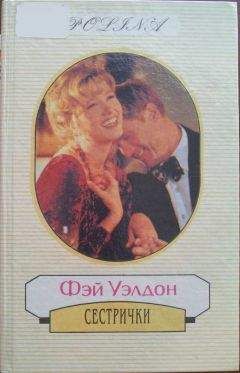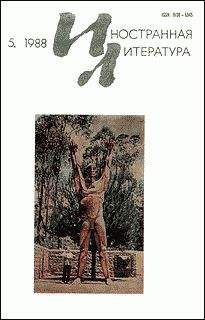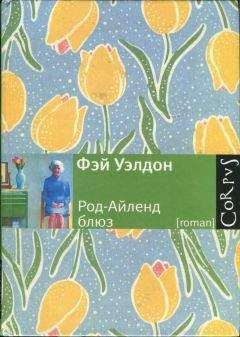Иннокентий Смоктуновский - Меня оставили жить
Мысль эта осталась не высказанной ни им, ни мной, потому что в ней все было неправдой, кем бы она ни была сказана. Она не могла что-либо изменить ни в положении, в котором мы оказались, ни в нас самих. И мы молчали каждый на своем месте: я подпирал стенку, он – неудачным пугалом торчал у колеса моего соседа справа.
Да и что говорить: как ни страшна действительность вокруг, но дорога перекрыта, деревня наша, те, за насыпью, не прут, ночь на исходе, впереди день и жизнь, хоть и через пень-колоду, но катит своими непростыми путями, катит, и мы живы, черт побери, стоим, торчим, и подпираем, и, что самое поразительное,- все еще надеемся. Вот только недостает уверенности, что порядок этот будет долгим, и оттого немного точит сожаление, что тех наших пяти товарищей нет с нами, тогда уж совсем было бы хорошо, славно и прекрасно.
Но на фронте, видно, такое если и бывает, то страшно редко – вот и мы подпали под эту неумолимую нехорошую сторону статистики.
Меня-то больше всего снедала вероломная скрытность их ухода. Уж такой тихой сапой все произошло, что долгое время не покидало ощущение, что все они должны быть где-то здесь, только затаились. Но время шло, а они все не выползали из своего подполья, и становилось больно и все более беспощадно ясно – они ушли. Ну, допустим, этот скоропалительный уход их был необходим
– раненые и один едва ли не безнадежно, и Телегин слаб, необходима помощь – кто спорит, все понятно и правильно, но хорошо, а мы-то как же? Какие ни на есть, а тоже, поди, живые, из клеток, нервов, видим, слышим, чувствуем и, что смешнее всего, то же самое хотели бы проделывать и впредь. А вот, поди ж ты, не всегда сбывается, что хочешь: "Отведите раненых и возвращайтесь, речь ведь все-таки идет о жизни вместе с вами отстоявших деревню четырех товарищей".
Первые приметы утра за неровной размытостью тумана порою приносили с собой надежду увидеть возвращающихся, но туман плыл, превраща идущие тени в темные стены амбаров,- и тоска новой холодной волной обдавала душу.
Время от времени из кювета дороги высовывалась макушка одного из наших дозорных (второй был где-то за деревом – вот, собственно, и все наше могутное войско), он вопрошающе-немо глядел в нашу сторону и, не узрев ничего нового, так же тихонько исчезал в своем укрытии. Да и кого спрашивать, о чем? Разве что самих себя, но тогда должно было бы и ответить. Этого сделать нам было не дано!
Из серой мути тумана, как из-за нарисованных облаков в кукольном театре, выдвинулось вдруг темное лицо. Я знал, что он где-то там, но это внезапное явление из-за слившегося с туманом дерева было как бы выдуманным, нарочным, причем придуманным плохо и оттого несколько нелепо смешным. Все вокруг было слишком иным, страшным, и появление этого "Петрушки" было некстати настолько, что, скажи он с какой-нибудь фистулой или писком в голосе, мы бы даже хохотнули, наверное, но солдат спросил до обидного просто, ясно, что напрочь не вязалось с его помятым, изнуренным лицом.
– Будем, нет, что сделать?
– Снимать штаны и бегать! – сердито проворчал мой знакомый, но так, что слышал об этом редком, развеселом аттракционе только я.
Этому, должно быть, трудно поверить, но я испытал тогда момент некой радости – оказывается, не я один способен вызвать его раздражение.
– Я куда тебя просил смотреть? – теперь уже намеренно громко, грубым надорванным голосом нетерпеливого массовика-затейника заорал он на дозорного. – Ну-ка, напомни мне – куда?
– Я смотрю, толку-то что? – И страж исчез за белесой размытостью дерева.
До меня вдруг дошло, что я, оказывается, стою рядом с вновь испеченным начальником и, чтобы не накликать на себя гнев, а больше, наверное, из желания показать, что я умею не только
"торчать", но и быть исполнительным солдатом, почел за благо быстренько спросить:
– А мне куда смотреть?
– В жо-о-пу!
Как видите, ответ был коротким, но совсем уж не по делу. Хотя бы потому, что не считаю, что, упершись взглядом в такое, можно было как-то изменить наше положение к лучшему. Я стоял и ждал, что сейчас разразится скандал в связи с невыполнением приказа, а я, честно говоря, вообще не представлял, как такое могло происходить, может быть, он просто так – к слову решил сказать, хотя лицо было очень серьезным, но он тихо, как-то совсем по-человечески вдруг попросил:
– В самом деле, ты не стоял бы на одном месте, а там покажись, в другом где месте выползи, высунься. Если что заметишь – я здесь и тоже ползаю, покажусь, поору. Кстати, и поорать было бы не лишним…
Боже мой, Боже мой! Как же это я просмотрел, совсем, не заметил даже: так ко мне мог обратиться только друг, оказывается, они у меня есть и я им нужен, нужен. Вот сейчас не буду орать. Что б такое дельное придумать? Как он это здорово, не стал выговаривать мне больше, только как-то вскользь, но все равно не приказал, а попросил меня поорать. Нет, он замечательный такой.
Друг! Поймал себя на том, что очень хочу быть похожим на него. И орать буду, как он. Ага, вот. "Эй, вы, что вы там притаились за полотном, дурачье вы этакое! Все небось смотрите сюда, а смотреть-то нужно совсем в другое место". Нет, так не годится, чем же все они там виноваты, что у меня здесь друг появился?!
Непонятный, странный грохот, внезапно появившись, застал нас врасплох. Звук шел откуда-то сверху, нет – от амбара, теперь за нашими спинами! Гул быстро нарастал, и вскоре на дороге, что вела из деревни в лощину, с каждым моментом все четче вырисовываясь, вылетела пара мчащихся галопом лошадей, запряженных в легкий прогулочный тарантас. Возницы видно не было, похоже, что повозка была пустой и обезумевшие лошади самостоятельно неслись в серый рассвет. Казалось, в каждое следующее мгновение они врежутся в изгородь, строение или дерево, но грохот, так неожиданно прервавший хоровод прекрасных мыслей и возмутивший дремлющую тишину вокруг, быстро уходил, таял и совсем замолк в лощине, оставив по себе лишь отголоски невнятного шума. Предыдущей ночью повозка эта (я узнал ее сразу) много раз обгоняла нас на марше, когда в темноте мы стремились сюда неведомыми путями-дорогами. В ней ехал тогда наш командир батальона – капитан, и еще какой-то офицер дремал, должно быть, развалившись, сидел рядом.
Теперь пустой экипаж загадкой прогрохотал мимо, и лишь мечущиеся в воздухе черными змеями оборванные концы поводьев говорили о том, что лошади, напуганные чем-то, сорвались. И, как ни странно, это было прекрасным знаком: значит, сам-то капитан остался, он здесь, и обязательно придет, и приведет с собою, он же старше того офицера, что сидел с ним рядом в ночном экипаже.
Прикажет – и все, никуда не денешься, да и вообще наведет какую хочешь подмогу – и лейтенанта нашего отыщет, и сержанта того с точилом вместо горла вернет, да и мало ли кого еще. Многие вчера оставались там, в доме, да, наверное, и в других строениях, так что все в порядке, сейчас-то уж мы им не дадимс и без орудия, а повезет, так, глядишь, и деревню удержим, и жить останемся… и друг теперь у меня есть, и он, вот он – рядом торчит. Так что – будь здоров – кони-то одни мчались. Этот факт никуда не денешь, седоки живехоньки, и они остались здесь. Теперь только надо запастись терпением и подождать немного, всего-то дел – подумаешь! С этим рождественским настроением и как-то неестественно улыбаясь, я и подполз к своему не очень разговорчивому начальнику – другу. Тот, не отрываясь, смотрел вслед умчавшемуся живому испугу. Что приковало его так?
– Что там, друг? – мягко и как бы между прочим, как само собою разумеющееся, хотел выговорить я, но получилось как-то нарочно, и я поспешил сделать вид, что сам немало удивлен, что в самый неподходящий момент что-то там в горле засвербило и оскал этот дурацкий откуда-то взялся.
Сначала он только скользнул по мне взглядом – отстань, дескать, но ‹тут› же, вернувшись, рассмотрел меня намного дольше, чем того требовал бы человек, просто спросивший "Что там, друг?", так что продолжать выяснять, что там или где-то в другом месте, было довольно глупо да и просто рискованно, я понял это по его взгляду: должно быть, воспоминания ночи были еще слишком свежи.
Между тем туман, поднявшись в долине, завис теперь над нею мягким, неровным потолком, и мы здесь, лежа на возвышении, просто упирались в него головами. Лошади, казалось, ликуют, видя наконец перед собой открывшийся их взору добрый, светлый, привычный их лошадиному ожиданию мир долин, лесов и так понятных им твердых дорог, и они в далеком ровном шуршании, в упоении скользили к насыпи.
Долина сияла, словно ее за ночь старательно отмыли, свежесть утра одарила ее хрупкой прозрачностью, которую мы все так ждем и любуемся ею ранней весной. Совершенно непонятно, как из такой красоты и нежности вчера могла идти смерть. Поражала чистота воздуха – лошади были далеко, но виделись так, словно мчались вот здесь, где-то совсем рядом, но только очень маленькие, словно вырезанные из картона и покрашенные в темный цвет.