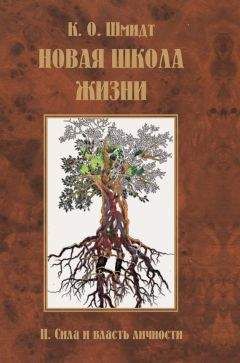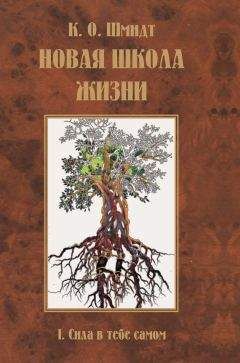Жюльен Грак - Сумрачный красавец
— Мне бы хотелось, Кристель, чтобы вы рассказали о вашем детстве (я записываю все это вкратце, опуская мои реплики, не имевшие прямой цели продолжить разговор. Какой в них смысл? Мне всегда казалось, что в девяти случаях из десяти диалог — это лишь отчасти сдерживаемый монолог: один из двоих, одержимый своими демонами, всегда держит бразды правления, как выражались в элегантных гостиных).
— Мне не так много запомнилось из раннего детства. Но я хорошо помню себя, двенадцатилетнюю, в большом, унылом пансионе — длинные коридоры с безжалостно бьющим в глаза светом, прохладные дворы в тени лип. Это было мрачное место. Я не умела завязывать дружбу с другими девочками, и каждая неделя, все недели (хотя, заметьте, училась я хорошо) проходили в ожидании воскресного утра, когда родные брали нас на прогулку. После окончания мессы мы играли во дворе. Потом появлялась сестра-привратница со списком и называла имена первых счастливиц. Ко мне приходили редко, и я никогда не знала наверное, выйду сегодня или нет. Шли минуты, привратница появлялась все реже, и по мере того, как двор пустел, он набухал тьмой, неотвратимой, как смертная казнь. Это был конец. Я помню этот двор под дождем, съежившийся, тоскливый, отрезанный от мира. В непроходимой лесной чаще и то не найти такого затерянного, пустынного уголка. И я гуляла под липами, которые осыпали меня дождем. Как сейчас, помню блестящие и влажные стволы, черные, угрожающие, а еще — намокшие веточки с отставшей корой, лежащие на земле, и водопад, струящийся с веток. Я была точно пьяная от одиночества, от невыплаканных слез. Смотрела, как по небу несутся тучи, порой сильный порыв ветра встряхивал ветки, и от крупных капель, падавших на землю, разлетались грязные брызги. А там, за стеной были оживленные улицы, колдовской лабиринт города, кафе, театры, толпа, все те чудесные места, где чья-то жизнь завязывается узелком, запутывается, находит опору в других жизнях, испытывает на себе их силу, их жар — но я была вне всего этого. Правда, я знала, что долгожданный выход в город опять обернется для меня разочарованием: всякий раз меня будто преследовали злые чары, и все вокруг становилось заурядным и скучным. Но мне не давала покоя мысль о бесчисленных возможностях, о блистательной, свободной жизни, путь к которой непостижимым образом мне заказан, я заперта в этих неумолимых стенах с окнами без ставен, переливающимися жестоким блеском.
Потом под присмотром надзирательницы мы снова шли в класс: маленькое, увечное, дрожащее от холода стадо, стриженые овечки, покинутые Провидением. Голос у надзирательницы помимо ее воли делался тише, мягче (нас ведь оставалось совсем мало, не надо было кричать, чтобы мы расслышали), и я воспринимала это как ласку, как выражение сочувствия. Я шептала: "Бедная, бедная Кристель!" В это мгновение я чувствовала, что становлюсь услужливой, доброй, заботливой — страшная несправедливость, которую учинили над детьми, на несколько минут превращала меня в сестру милосердия.
Мне было тринадцать лет, когда меня первый раз повели в театр. Вынуждена признаться: из самых напыщенных и ходульных опер мне по вкусу наихудшие, те, что не идут на компромисс. В тот вечер давали "Тоску" (представляю, что вы подумали, но я запрещаю вам смеяться). Войдя в зал, я сразу оказалась в гуще жизни, настоящей жизни, той единственной, которою мне хотелось бы жить. В театре я люблю все: резкий запах духов, грозовой багрянец плюшевых драпировок, эту полутьму глубокой пещеры, отливающей перламутром, перегородчатой, пластинчатой, словно внутренность раковины или улья. Впрочем, в какой бы части театрального здания я ни находилась, хитросплетение коридоров, наклонные плоскости, лестницы — все наводит меня на мысль, что я проникла сюда через подземный ход: именно поэтому я здесь чувствую себя в безопасности, в надежном убежище. В пышной и торжественной обстановке, подобающей церкви, — правда, театр по сути и есть церковь, — светская музыка обретала для меня некое религиозное звучание, затрагивала все струны моего сердца, это были Любовь небесная и Любовь земная (поверьте, я не шучу), как их изображают на наивных картинах — мне хотелось разрыдаться, но я сидела не шелохнувшись, без слез, широко раскрыв глаза, словно пораженная ударом тока. В этой опере (к стыду своему, не знаю, где именно) есть отрывок, воссоздающий какую-то простодушную народную забаву, что-то вроде беззаботного деревенского праздника под ярким, сияющим солнцем, — но я настолько прониклась духом Рима, с его зноем и ароматами, его неумолимыми твердынями (позже мне приходилось видеть и гравюры Пиранези, и замок Святого Ангела, — но все это возникло в моем воображении еще тогда), его испепеляющим молниями небом, свидетелем величественных страстей, — что этот отрывок, светлый островок беспечности на вершине катастрофы, подействовал на меня сильнее, чем самая трагическая ария, буквально заставил содрогнуться. А последний акт стал потрясением: это была жизнь, поправшая смерть, жизнь по ту сторону могилы, песнь любви, торжествующей и после рокового залпа. Не стыжусь признаться: когда полицейские театральным жестом сняли шляпы у края бездны, куда только что бросилась героиня, этот гениальный образчик безвкусицы вызвал у меня слезы. Я была там, в самом сердце трагедии, вне жизни, вне себя. Это был дневной спектакль, в зимнее время: когда мы вышли из театра, уже стемнело, у меня звенело в ушах, я натыкалась на стены, как пьяная. Город с его огнями качался, заливаемый черным ливнем, улицы были точно прогалины, в которых застоялся душный красноватый туман, а надо всем торжествующе развевалось знамя смерти.
Я немножко посмеялся над Кристель, хотя меня растрогала ее исповедь, взволнованная и полная высокомерия. Можно ведь смеяться над человеком мягко и дружелюбно: такая насмешливость обычно свидетельствует о глубочайшей душевной близости, в которой не решаешься признаться, — и помогает избыть излишек симпатии.
Потом мы присели ненадолго отдохнуть во впадине между дюнами. В упоительном лунном свете песок поражал белизной, но уже был холоден, как снег. Прилив ослабевал, моря было почти не слышно. Невозможно представить себе более призрачный пейзаж: один его край терялся в морском просторе, другой — у мглистого горизонта, над пустошами, присыпанными мелкой жемчужной пылью. Кристель была задумчива, какая-то грустная мысль увлекла ее за собой. Она говорила обрывками фраз, с долгими паузами:
— Может быть, не стоит без конца твердить себе это — ведь высказывать мысли вслух все равно что выражать пожелание — но мне кажется, я обречена растратить жизнь впустую. Меня слишком мало занимает то, что не имеет для меня значения. Как если бы я в ярости отбрасывала ничто в ничто. Пусть уж потерянное время будет действительно потеряно. Пусть то, что лишено смысла, по крайней мере не принесет пользы. В этом у меня выражается благородство. Чего бы я только не отдала, чтобы заснуть и во сне проплыть над безотрадными пространствами, которые каждый живущий преодолевает с неотвязной мыслью о том, что в это мгновение он мог бы быть где-то еще.
Я заметил, что такое высокомерное презрение к жизни часто объясняется лишь ленью и недостатком мужества. Только заставляя себя жить в постоянном напряжении, можно заслужить награду: редкостные мгновения, небывалые возможности, чудесные неожиданности, — все то, о чем, как я догадывался, она сейчас подумала.
— А почему вы решили, что я живу не в напряжении? — шутливо возразила она: ее забавляло, что беседа приняла несколько рискованный оборот. Но тут же опять помрачнела и заговорила своим ночным голосом, тихим, звучным, ровным голосом, интонации которого я не могу воспроизвести в этом пересказе.
— Не думаю, чтобы человек мог подстегнуть свою удачу. Она ведь куда как проворнее нас. В этом смысле я — кальвинистка (Она говорила, улыбаясь странной, застывшей улыбкой). Расскажу вам еще одну историю. Это тоже будет притча, хотя ее сила — в абсолютной точности всех деталей. Однажды ночью я возвращалась скорым поездом из Анже в Нант. Примерно на середине пути начинается пейзаж, который я очень люблю, там, где Луара течет меж высоких, лесистых холмов, увенчанных замками, — поистине королевская долина. Я стояла одна в коридоре, за окном была тоскливая ночь, иссеченная струями дождя. Как со мной нередко бывает, я "говорила, обращаясь к собственному сердцу". Я живу очень одиноко и часто разговариваю сама с собой. Поскольку дельные мысли и остроты обычно приходят мне на ум с запозданием, это для меня единственная возможность блеснуть в разговоре, иногда я даже увлекаюсь и прихожу в сильное волнение. Итак, я, обращаясь к воображаемому собеседнику, описывала ему удивительную игру света над Луарой, на отрезке пути, который предстояло проехать. "Жаль, очень жаль, что сейчас такая непроглядная тьма". И в то же мгновение — самое большее, через две-три секунды, — за окном стало светло как днем, все, до самого горизонта, озарилось каким-то небывалым, пугающим светом, как от вспышки магния. Я застыла на месте, не в силах шевельнуться, кровь отлила от лица, я побледнела, словно услышала трубу Страшного суда. Все неправдоподобное настолько болезненно для нас, что вы, надеюсь, не усомнитесь в моей искренности. На следующий день я прочла в газете, что в небе над Луарой пролетел метеорит и упал в море километрах в ста оттуда. Непостижимым образом мое желание было исполнено, и я никогда этого не забуду. Для меня этот метеорит занял место среди знаков зодиака.