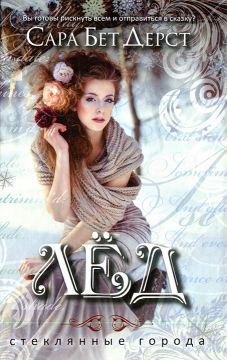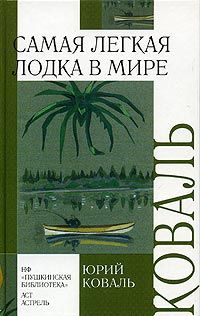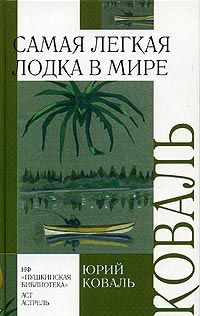Таир Али - Идрис-Мореход
По дороге домой он купил у уличного торговца жареной рыбы, которую ему завернули в обрывок газеты с фотографией Лимана фон Сандерса.
И даже хрупкий позвоночник рыбы указывает мне путь:
Все время на Восток, все время на Восток.
Между тем дни складывались в недели. Недели — в месяцы. Война была в полном разгаре. Дедушка перебрался на четвертый этаж трущобного дома на узкой грязноватой улочке ниже знаменитой Пера Палас, где, словно в каком–то оцепенении, строчка за строчкой сочинял невообразимую поэму, прерываясь лишь на сон, покупку провизии и, когда повезет, переводы на заказ. Короткие заметки да переводы из немецкой беллетристики для пестрой константинопольской прессы того времени стали для него основным источником существования.
Еще до начала войны охотнее всего дедушку печатали в «Хилал» е. Помимо довольно удачных подборок из Гейне, современного Рильке и нескольких ранних стихотворений, там были опубликованы некоторые части поэмы Идриса Халила, а именно, целиком первая и вторая главы и фрагменты третьей. Но потом случился скандал, бессмысленная шумная склока в стиле восточных поэтов, и редакция «Хилала» отказала ему в дальнейшем сотрудничестве…
Случай свел их в большой темной кофейне на первом этаже четырехэтажного особняка в самом начале проспекта Бейоглу, там, где он спускается к площади Таксим. В дымном гвалте нищих эмигрантов, начинающих поэтов и неудачливых журналистов, пропитанном ароматом кофе с кардамоном и розовой воды, пузырящейся в кальянах. Они сели за столик у самой стены, бурой от табачной копоти и бесконечных диспутов, в компании нескольких студентов–азербайджанцев, турка, хроникера из газеты «Тенин», и русого татарина, члена некой боевой организации.
Это была первая но, как показало время, далеко не последняя встреча моего дедушки со знаменитым соотечественником Мухаммедом Хади.
Два восточных поэта, двое прилежных учеников из моллаханы, один — Бакинской, другой — Шемахинской, два эмигранта в неуютном Городе Царей, и, наконец, два безумца, почти забытые потомками.
Они не понравились друг другу с самого начала. Поэтому я не склонен считать, что причиной громкой перебранки, в результате которой язвительный Хади назвал моего деда «заблудившимся пекарем», а его стихи «бессмыслицей, присыпанной сахарной пудрой», послужили формальные расхождения во взглядах на пути развития восточной поэзии. Перебранка едва не закончилась потасовкой.
Как известно, вскоре после этого Мухаммед Хади был неожиданно арестован по некоему доносу и сослан в Салоники, где его едва не убили.
Досадное совпадение. Случайность, ставшая Судьбой с удушливым запахом предательства, отравившей поэтическое дыхание моего деда, Хади на каменистом берегу Эллады, среди кустов терпкого лавра, в доме местного священника, укрытый от бунтовщиков, разыскивающих имперских шпиков, и униженный, оклеветанный Идрис Халил перед закрытыми для него дверьми редакций.
Случайность и Судьба развели их по разные стороны и, в то же самое время, переплели их жизни невидимыми узами. Пластичные и надежные, как нити кетгут, — они переживут их обоих.
2
24 ноября 1914 года.
С утра моросит холодный дождь, временами переходящий в мокрый снег. Идрис Халил торопливо идет по проспекту Бейоглу, мимо роскошных витрин с импортной европейской одеждой, цены на которую, в связи с войной и морской блокадой, выросли почти втрое, мимо кофеен, ярко освещенных рыбных ресторанов, бакалейных магазинов. С грохотом проезжает трамвай, выкрашенный в красный цвет, над кабиной кондуктора трепещет маленький флажок с тремя полумесяцами. Уличные зазывалы хватают Идриса Халила за руки, назойливо предлагая зайти в маленькие кафе. Он отмахивается и продолжает торопливо идти, не поднимая глаз от мокрой брусчатки. На нем пиджак с поднятым воротником, из кармана которого торчит свернутая трубочкой рукопись, на опущенной голове промокшая феска, вокруг шеи длинный шарф. Нет ни светлого пальто с барашковым воротником, ни пресловутых штиблет.
Как это ни прискорбно, Идрис Халил голоден. Его подташнивает от пряного аромата кофе и запахов всевозможной снеди.
У тумбы с афишами, отпечатанными на тонкой газетной бумаге многоязыким, многоалфавитным языком Константинополя, турок с огромными висячими усами в расшитой золотом короткой курточке жарит на углях каштаны. Он переворачивает их щипцами, каштаны трещат на железной решетке, острый дым быстро поднимается к мокрому небу, тяжело висящему между летящими крышами многоэтажных домов. В переулке, под навесом, стоят торговцы рыбой. На деревянных подносах рядами уложена рыба и крупные мидии, увенчанные половинками лимонов.
У ворот опустевшей британской миссии, возле которой лениво дежурят вооруженные полицейские, Идрис Халил почти теряется в торопливой толпе, текущей в обоих направлениях. Непривычно много офицеров и агентов тайной полиции. Со стороны порта, из темных боковых улиц, парами выходят военные моряки с проститутками в широкополых шляпах кричащих цветов: некоторые из них держатся за руки и громко смеются, другие — молча смешиваются с толпой. И никто не обращает внимания ни на них, ни их спутниц, потому что идет война, и потому что Судьба, записанная на молодых лицах этих моряков, уже отчетливо проступила несмываемыми Знаками.
В Цветочном Пассаже за столиками почти нет свободных мест. Играют на скрипках цыгане, а огненный смерч все ближе подкатывается к тысячелетнему городу.
Белое и черное на золотом. Белые особняки, глядящие в свинцово–черные осенние проливы, и опадающее золото гигантских платанов. Листья с хрустом ломаются под ногами прохожих, липнут к колесам повозок и роскошных авто. Листья падают на черепичные крыши и на газон у недостроенного дворца Чираган Палас. В порту на баржи грузят солдат и отправляют в Трапезунд, Египет и Месопотамию. И товарные поезда со всей страны, заполненные до отказа свежим пополнением, выбрасывая кольца черного дыма, несутся на всех парах к вокзалу Хайдарпаша.
Судьба пальто с барашковым воротником и штиблет — очевидна. Дедушка продал их на блошином рынке. И еще он сбыл часы, и большую часть своих книг.
Жалко часы. Жалко пальто. Хорошее, теплое, красивое.
Идрис Халил сидит на железной кровати в темной, сумрачной мансарде. Единственное окно выходит на крышу соседнего дома, где развешано белье. Рядом с кроватью — стол и железная печка с трубой, отведенной в закопченную форточку. Самое ценное во всей обстановке — это кусок старого паласа на полу.
В комнате холодно, потому что приходится экономить на угле, и дедушка ужинает, завернувшись в одеяло. Черные маслины, помидор, нарезанный круглыми ломтиками, кусок молодого сыра и чурек. Кроме него, в комнате еще рыжая кошка. Свернувшись клубочком, она лежит на кровати. Огненно–рыжая. Как–то вечером она сама пришла к двери. А рыжих кошек, кошек Пророка, как известно, нельзя прогонять. Кошка без имени. По ночам, когда смолкает городской шум и становится отчетливо слышно, как в порту гудят отплывающие пароходы, она просится на улицу и бродит по окрестным крышам до самого утра.
Дедушка вдруг перестает жевать, поднимает голову от тарелки и, резко обернувшись, смотрит на меня из плывущих сумерек долгим удивленным взглядом.
Но день еще не закончился. 24 ноября 1914 года продолжает длиться как долгие сумерки поздней осени, как дробный стук капель по черепичной крыше, как глубокие гудки грузовых пароходов.
Волшебная лампа.
Идрис Халил снимает плафон и, чиркнув спичкой, зажигает пропитанный керосином фитиль. Огонек быстро вытягивается в ровный лепесток, и густой теплый свет разливается по столу, захватывает часть беленых известью стен и изломанный потолок мансарды, с выползающими на них острыми тенями.
Керосин, чудотворное масло родом из горькой земли Биби — Эйбата и Балаханы, единственное напоминание об утраченном доме. С началом морской блокады цены на него подскочили почти вдвое.
Идрис Халил убирает тарелки с остатками еды на подоконник, сухой ладонью сгребает крошки и высыпает их в пепельницу. Из кармана пиджака, что висит над изголовьем кровати, он достает рукопись поэмы, раскладывает перед собой мятые листы.
…окно на крышу соседнего дома…
Чернильные завитушки скатываются с кончика стального пера, постепенно обретая смысл.
Тем временем наступает вечер, и стихают все эти пронзительные крики разносчиков овощей, старьевщиков, шарманщиков, продавцов газет, свистки полицейских. В плывущих сумерках растворяются грохот повозок, цокот копыт по мокрой от дождя брусчатке, редкие клаксоны автомобилей и последние заунывные фабричные гудки, и остается лишь дробный стук капель в дребезжащие оконные стекла.
![Андре-Марсель Адамек - [Самая большая подводная лодка в мире]](/uploads/posts/books/127633/127633.jpg)