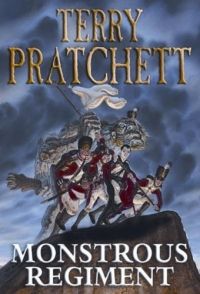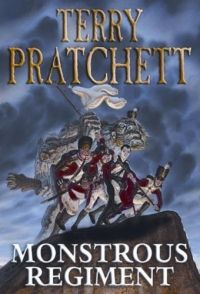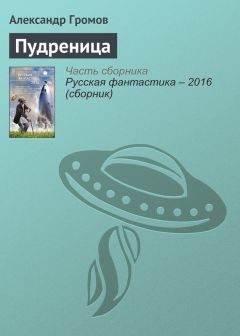Яан Кросс - Полет на месте
Это был на редкость красивый черный доберман, которого господин Берендс купил по случаю весной 1921‑го. Купил у студента–эмигранта с маленькими черными усиками, молодого господина Бурова, вечно пребывающего в денежном затруднении, и заплатил за трехлетнего пса три тысячи марок. Такая высокая цена была обусловлена любовью господина Берендса к широкому жесту, а также выдающимися способностями собаки. Молодой господин Буров сделал Ролли отличную рекламу, и, кроме того, господин Берендс знал, зачем господину Бурову, каждодневному его гостю, нужны деньги: для щедрых расходов на одну из семи дочерей генерала Третьякова (тогда уже, конечно, генерала Третьякофф, в то время тоже частого гостя Берендсов), за которой он ухаживал. А про собаку господин Буров говорил: «О, знаете, господин Берендс, Ролли это такое животное, будто фамилия его хозяина не Буров, а Дуров! Я здорово с ним помучился — но результат того стоит! Господин Берендс, встаньте, пожалуйста, и скажите ему «Здравствуйте!» и поглядите, что он сделает!»
Господин Берендс с улыбкой вставал и говорил псу: «Здравствуйте». На что пес подымался, подходил к нему, вставал на задние лапы, клал левую лапу ему на правое плечо и протягивал правую — Гав! — для того, чтоб ее пожали и потрясли. Господин Берендс с восторгом выложил молодому господину Бурову три тысячи, а для Ролли немедленно возвели в палисаднике на улице Рауа перед квартирой Берендсов собачью конуру, и господин Буров самолично положил в конуру зеленую подушку, указав собаке ее новое место и новый дом. Улло две или три недели не мог оторваться от Ролли, и барышня фон Розен, которая жила у них в доме и обучала мальчика французскому языку, за руку оттаскивала его от собачьей конуры, сначала в ванную, а потом в спальню. Так продолжалось, пока Надя, одна из семи дочерей Третьякофф, и по иронии судьбы именно та, за которой ухаживал молодой Буров (безуспешно), смеясь, спросила у господина Берендса и госпожи Сандры:
«Да–да, на «Здравствуйте!» эта псина реагирует так, а вы не пробовали узнать, как она поступит, если с ней поздороваются по–эстонски «Теrе!»?»
Этого они не пробовали, и господин Берендс тут же осуществил сие. Ролли повернулся задом к хозяину дома, поднял заднюю лапу и пустил на штанину его светло–серых брюк звонкую струю.
Такого безобразия мать Улло, несмотря на свое почти пролетарское происхождение, стерпеть не могла. Мне кажется, что в течение супружеской жизни ее голос звучал в доме весьма тихо, но именно из–за этого тихого голоса некоторые ее решения были для Эдуарда беспрекословными. Во всяком случае до тех пор, пока он с ней считался. А в то время он считался с ней очень и очень. Так вот, мать Улло сказала:
«Эдуард! Избавь нас от этой собаки. Представь себе — неужели моя мама, когда она придет навестить Улло, — должна будет из–за собаки всем говорить «Здравствуйте»? Потому что «tere!» она ведь нам не может сказать — если она не хочет, чтобы…»
Итак, господин Берендс продал Ролли, кажется, в тот же самый день каким–то русским эмигрантам — говорить «tere» они бы все равно не стали — и по крайней мере половину из трех тысяч марок себе вернул. Что касается бабушки, то теперь она по воскресеньям могла свободно приходить к Улло. Между прочим, бабушка, то есть мамаша Тримбек, была весьма важной персоной для него.
Она была скорее суровая, чем добрая женщина, хотя бы по отношению ко многим другим здесь, в доме. У бабушки, при всей ее смуглости и грузности, был на редкость быстрый голубой взгляд. Улло она внушала глубокое чувство защищенности! В этом неуютном доме, вечно переполненном чужими людьми. Но дело было даже не в том чувстве защищенности, которое возникало у мальчика благодаря строптивой бабушке и ее хриплому смеху (она избирала объектом смеха всегда других, Улло никогда им не становился), то есть дело было даже не столько в этом чувстве, связанном с ее личностью, сколько в ее рассказах, вызывавших огромный интерес. Потому что бабушка рассказывала восьмилетнему Улло, который немедленно самым живым образом все это себе представлял, ну например, о том, как она семнадцатилетней девушкой участвовала в харьюмааском деревенском хоре на первом всеэстонском певческом празднике в Тарту. Даже побывала со своим руководителем хора на улице Тийги в доме Яннсенов. Своими собственными глазами видела папашу Яннсена — «Очень приветливый и доброжелательный старый господин». А еще важнее (смешно даже подумать, что бабушка это поняла), еще важнее, чем увидеть Яннсена, было увидеть самолично Лидию Койдулу 7. Бабушка точно помнила, как Койдула крикнула им из дверей отцовского кабинета, когда они постучали и на женский голос «Войдите» решили, что действительно можно войти:
«Ach, ihr lieben Leute8, вытирайте как следует ноги! К нам ходит столько народу, а улицы такие грязные…»
Они так долго вытирали ноги на джутовой циновке, что барышня–поэтесса весело, а может, и нервно воскликнула: «Ну хватит, хватит, хватит! Заходите же наконец!» — и собственноручно передала им ноты.
Бабушка пояснила: «Не знаю, как остальные, но я на следующий день пела со своих нот гораздо старательнее, чем раньше. Потому что их нам вручила сама эстонская Соловушка. Несмотря на сделанное ею внушение, чтобы мы вытирали ноги…»
И еще бабушка говорила о вещах, которые, это Улло понял лишь со временем, госпожа Тримбек не могла видеть своими глазами, потому что они более давние, чем бабушкина молодость: об Иване Страшном, как сего царя, великого князя Московского, сначала звали в наших краях еще до того, как стали прозывать Жестоким, что было попыткой приспособить к эстонскому языку слово «Грозный», которое по сравнению с эстонским «Страшным» звучит почти мазохистски, почти маняще: Иван, который нагоняет страх, или что–то в этом роде.
Рассказывала про песьеголовых, что были первыми помощниками Ивана Страшного. И описывала их так подробно, будто каким–то непонятным образом она все же должна была их видеть, хотя они исчезли с этой земли вместе со своим Иваном и здесь их больше никто не видел со времен старой доброй Швеции. Бабушка знала: в большинстве своем они были невысокие, во всяком случае все ниже четырех футов, мужчины. Женщин среди песьеголовых не было. Только мужчины. И все с песьими, а скорее, с лисьими мордами. С волчьими мордами, вернее. И длинными зубами. И гоняли они по лесам и селам, все чего–то вынюхивали и, когда нападали на след человеческий, начинали, пригнув морды к земле, поскуливать да слюну ронять. А что они делали с теми, на кого нападали, кого хватали, это бабушка как–то обходила стороной: «Ах, что они могли сделать — небось терзали их как могли». И хотя Улло просил, чтобы ему объяснили поточнее, он все же требовал этого не слишком настойчиво. Ибо боялся, что ночью не избежать ему борьбы с песьими мордами, придется обжечься их вонючим дыханием и такая перспектива лишала его сна. Так что песьеголовые остались за пределами его сна и были изгнаны из сознания защитными флюидами бабушки. Но свои кошмарные сны все ж у него были. Особенно один, повторяющийся в течение нескольких месяцев.
Он тот, кто есть: восьми- или девятилетний Улло Берендс. И он спит в своей комнате в роскошной квартире на улице Рауа и вдруг пробуждается, но не от сна, а во сне. И видит: почему–то он спит не в своей постели, а на полу. И если вначале, проснувшись первый раз, еще не знал, что происходит, то каждый новый раз он знает, знает, и страх его растет и растет. Потому что рядом с ним на полу лежат большие, серые, пахнущие землей мешки, наполненные чем–то живым и страшным. Они начинают шевелиться, разрастаться, ползти, и приближаться, и грозить, что они вот–вот раздавят его. Он пытается их оттолкнуть. Он сражается, кричит, просыпается по–настоящему и боится заснуть. Потому что страшный сон повторяется. Сначала он его видит две–три ночи подряд. Потом два–три раза за ночь и через каждую вторую–третью ночь. Поначалу рыжая барышня Розен, сама внушающая какое–то опасение, будет брать к себе в постель просыпающегося в крике и хнычущего мальчика, чтобы спасти от мучителя. А когда это спасет лишь ненадолго, мать переведет его на диван в родительскую спальню. А сон все будет повторяться и, более того, прогрессировать таким сатанинским образом, будто мальчик с каждым сном становится все меньше, а мешки со своим неведомым и страшным содержимым, приближаясь и угрожая, все больше, тяжелее, ужаснее. Наконец мальчик стал уменьшаться до булавочной головки и превратился–таки в булавочную головку. Под удушающим натиском приближающихся, бросающихся серых мешков булавочная головка горит от страха. От страха, что вот–вот–вот прожжет она или проткнет своим острием навалившиеся на нее мешки — и Страшная Вещь вырвется из мешков и уничтожит своего освободителя…
Этот кошмарный сон отступил лишь через несколько месяцев. При этом мать, и отец, и барышня Розен, и кто–то там еще, включая семейного врача доктора Дункеля, уговаривали его по ночам, когда он плакал и когда просыпался, и на следующее утро, и при белом свете дня: расскажи, что такого страшного ты видишь во сне. Он не рассказывал. Кстати, сейчас читаю об этом в своих заметках, которые были сделаны во время беседы с ним в 1986 году (ему было тогда семьдесят лет):