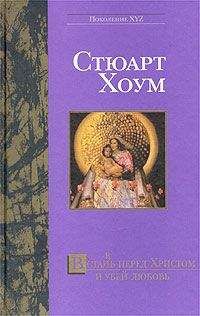Заза Бурчуладзе - Минеральный джаз
Что касается Пантелеймона, то он во всем, кроме того что не носит юбок и не прибегает к помощи инвалидной коляски, вылитая матушка: тощий, как швабра, длиннолицый, как мерин, горбоносый, как стриж, тусклоглазый, как… ну, и, почитай, все остальное. Есть, однако, и чрезвычайно важный отличительный признак — усы, лепящиеся, как почтовая марка, под его носом. Присущи ему и некоторые странности по части прикида. Излюбленный домашний его наряд — спортивная двойка. Что можно возразить против спортивной двойки? Дело, однако, в том, что речь идет о синтетическом чудище, пузырящемся на коленках и обвислом пониже спины. И на ком! На заслуженном враче, без которого в свое время в инфекционной клинике не ставился ни единый диагноз. Случаются с ним странности и несколько иного толка. Взбредет, к примеру, в голову, что, если он не оформит себе страхового полиса, непременно где-нибудь схватит насморк. И, чтоб не допустить подобной напасти, каждое утро натощак давится чесноком и каждый вечер парит на всякий случай ноги в полном горячей воды тазу. Чуть похолодает, нахлобучивает перед сном ночной колпак с завязками под подбородком, как у грудных детей, и лунатиком слоняется по дому в войлочных шлепанцах, в ветхости не уступающих вышеупомянутой двойке, так что большой палец, того и гляди, выглянет наружу. Деятелен Пантелеймон до чрезвычайности. То и дело бросается что-то чинить, и по преимуществу то, что находится в отменном состоянии. А если спросишь его, зачем, скажем, он развинтил и разобрал утюг, сошлется на то, что тот недостаточно хорошо прогревался, кран всю ночь капал, не давал ему спать, приемник поет не так чисто и т. д., и т. п. Не выпускает из рук плоскогубцев, отвертки и тюбика с клеем, из сомкнутых губ — клочка изоленты, тщательно исследует электропроводку, якобы с целью что-то предусмотреть и изолировать. Ну, был бы хирургом, понятно, профессия наложила свой отпечаток, так ведь нет — инфекционист, а не хирург.
Натэла дама плотная и, мягко говоря, не очень уж рослая, не выше голубки. Зато седины ее вьются и серебрятся, лик розовеет, глаза голубеют. Вся этакая светленькая и прозрачная. И главное, жутко смешливая. Покажи палец, помрет от хохота. Чтоб любила пуститься в пляс — нет, не скажу, но вот стирает — поет, стряпает — напевает. И что, знаете, интересно? Проявляет склонность к джазу. Точней — выпевает горлом партии басов: даб-дуб-диб-доб-деб. Чистый ад! Слушать партии одних только басов, пусть в исполнении самих Мингуса или Пасториуса, ополоумеешь. Контрабасу вменяется в долг вести тему, в крайнем случае можно допустить в композиции его небольшое соло, но бесконечно, до умопомрачения слушать его или бас-гитару, даже непрекращающуюся каденцию, признайтесь, почище даже и ада. К тому же у Натэлы ни на грош нету слуха, как говорится, на ухо ей наступил медведь. Хорошо, если включен телевизор или радио, не то эти ябадабаду — кошмар. Ни на кого, кроме Пето, сии рулады не действуют, Пето же никогда не позволяет себе перебить или остановить певунью. В конце концов, мать есть мать, и что тут поделаешь. Но! Общеизвестен факт, что в Освенциме не последним из множества пыточных средств и истязаний было наигрывание одной и той же мелодии, до тех пор пока узник не свихнется. Пето постоянно, годами пребывает в положении такого вот узника. Сама Натэла, уверяю вас, и ведать не ведает, что столь жестоко терзает родное дитя, не то бы давно уже прекратила свои экзерсисы. Что ж, никто не совершенен, как отец наш небесный. Зато Натэла уживчива и неконфликтна, и ей никогда не изменяет блаженное расположение духа. Впрочем, упаси вас Бог предположить, что она слегка, так сказать, с приветом.
Ну, вот, мы подобрались и к Пето Очигава. Пето смахивает разом и на отца, и на мать. Можно сказать, дает некое производное. Низкорослость Натэлы сочетается в нем с худощавостью Пантелеймона. Он столь тщедушен, что не отбрасывает тени, и столь невысок, что не виден из-за газового баллона в кухне. Обликом тем не менее не рыцарь печального образа, не гонимый обществом сиротливый поэт. Скорее, парень с несколько сдвинутыми мозгами. Он и в подметки вам, достойные господа, не годится, так что можете быть на этот счет совершенно спокойны. Нельзя тем не менее не подчеркнуть одно его любопытное свойство — он горячо любит джаз. Поглощен им, обожает, и добавить к этому нечего.
Что это еще за напасть, спросите вы и будете правы. Сущая напасть, наваждение, соглашусь с вами я. Что, стало быть, я подразумеваю под сдвигом мозгов? Приходилось вам слышать, что когда в юную душу с одной стороны проскальзывает любовь, то с другой выскальзывает рассудок? Так вот с таким раскладом мы с вами и столкнулись. Что же, однако, такое это пристрастие к джазу, уж не детская ли болезнь, что со временем бесследно проходит? Не тут-то было, по всему видно, что у Пето она не пройдет, тем паче сама собой. Причудливый нрав Пето таков, что, если однажды он чего-то сказал, его уж не переубедишь. Вырвалось как-то, что любит джаз, и кончено, и все, ни за что не отступится. Так это не любовь, усомнитесь, должно быть, вы, а просто-напросто одержимость. Помилуйте, господа, а любовь разве не одержимость? Не одно разве и то же, любишь впрямь или убеждаешь себя любить? Я, к примеру, не Бог весть как люблю писать, но уверяю себя, что очень люблю, и соответственно принуждаю себя писать. Ну, а раз пишу, стало быть, совершается акт любви. Это так, и ничто ни на грош от этого не отпадет, клянусь вам тем самым, что разымчиво надвое и обросло легким пушком.
Впрочем, как бы не вывелось так, будто Пето одержим джазом с самого детства. Нет-нет, джаз вторгся в его жизнь в несколько более поздние лета. Точнее не вторгся, а понемножку, этак исподволь вползал и внедрялся. Отравлял и отравил-таки ему душу. Никто в доме об этом не знает. Вернее, знают, но стараются не подать вида. Переходный возраст, пройдет, ничего, убеждает Натэла себя, а заодно и Пантелеймона. Так-таки пройдет и отвяжется, будто это коварная вековуха кружит юнцу голову и норовит пробраться в его семью. Куда там! Натэле невдомек, что призрак джаза давно бродит по их жилищу и уже требует заслуженного внимания. Пантелеймон, случается, едва сдерживается, чтоб не закатить сыну затрещину. Впрочем, нет, конечно же, нет. Доходящее до наивности благородство Пантелеймона не позволит ему не только поднять руку на сына, но выместить гнев даже на комаре. А между тем, как она необходима — хоть самая легонькая затрещина.
IV
Смерть Орлова и исчезновение медведя, увы, сорвали гастроли московского цирка. Что и говорить, все его номера и меланжакты были один эффектней другого, но, как выяснилось, верней как оказалось, газеты чересчур неумеренно сосредоточили все внимание на фокуснике, и публика валом валила не на танцующих пуделей, не на говорящий камень, а именно персонально на окутанного тайнами графа. По милости прессы в ней укрепилась уверенность, что изюминка, или гвоздь, или как его там, представления состоит в одном только графе, а все остальное не более чем интермедии. И приходится ли удивляться, что поистине огненных всадников на огненных же конях она не удостоила даже легких рукоплесканий, при том, что отчаянные эти головы выделывали на скаку такие головокружительные сальто-мортале, что при малейшей неточности могли бы запросто свернуть себе шеи. Впрочем, шеи никто из них не свернул, и сквозь горящие обручи они проскакивали столь безукоризненно мастерски, что не только высоченные каракулевые папахи, но и волосок в их усах не дрогнул и не обгорел. За наездниками следовали потешные пудели-танцоры, за пуделями акробаты с поистине смертельными номерами — с протянутых над головами публики канатов все сплошь падали на арену замертво. Жонглеры манипулировали всем, что ни попадало под руку. Клоуны по девять раз обливались потом, лезли из кожи, демонстрируя комическую буффонаду и утонченнейшую эксцентрику так, что разве лишь пень-гнилушка мог бы при этом не хохотать до упаду. Публика между тем и ухом не повела. Все — и стар, и млад — с замиранием сердца ждали появления графа. И когда вместо обетованной диковины в центр арены выкатили здоровенную говорящую глыбу и она, как живая, разразилась громовым спичем, по залу разнесся шумок от зевков и вздохов глубокого разочарования, после чего надвинулась такая зловещая тишина, а атмосфера так накалилась, что если б кто-нибудь чиркнул в эти мгновения спичкой, все неминуемо взлетело бы в воздух. К счастью, пронесло, никто спичкой не чиркнул, а напряжение разрядил некий пьяница, с присущими этого рода субъектам прямотою и откровенностью, а также сопутствующим им прицокиванием языка выразившийся несколько грубо, но не достаточно громко, так что острое словцо его воздуха не пропороло, а лишь проползло по нему, как червь по трупу. Но от перечного смысла словца зарделся краской смущения даже камень-оратор на самой середине арены.
Короче, представление завершилось, а граф так публике и не явился. Да и как ему было явиться, когда он был уже более, нежели мертвым. Возмущенная публика чуть не разнесла и не подпалила здание цирка. «Обманщики! Что они себе позволяют! Примите обратно билеты!» — вопила и визжала она и, потрясая кулаками, грозила расправой.