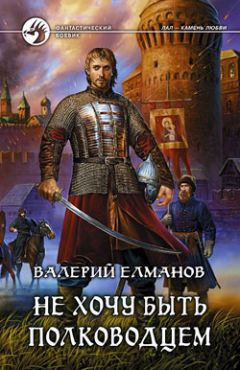Александр Щелоков - Хрен с бугра
— Не перебрал?
— Что вы, Константин Игнатьевич! Как стеклышко! Готов выполнить любое ваше задание.
— Тогда садись. И слушайте оба внимательно.
Главный выдержал паузу, разглядывая нас так, словно видел впервые и еще не знал, стоит ли с нами доверительно говорить о деле или лучше умолчать о нем из-за здорового недоверия. Поскольку же выбора не было, он поборол сомнения.
— Учтите, товарищи, данный разговор — сугубый. Значит, здесь поговорили, а за дверью — молчок. Чтобы оба как рыба о паровоз…
— Ясно, — сказал я.
— Всё, Константин Игнатьевич, — как клятву произнес Лапшичкин. — Запечатлел и закрепил.
— Так вот, товарищи… К нам едет…
Голос у Главного стал торжественным, задрожал на высокой ноте и оборвался.
Я не выдержал и передразнил:
— К нам едет ревизор…
Главный знаменитой реплики не принял. Не улыбнулся даже.
— К нам едет, — громко сказал он и вдруг понизил голос до шепота, — сам Никиша…
«Сам Никиша» — это означало, что к нам едет Никифор Сергеевич Хрящев — Большой Человек великой страны Советов, которая под руководством Коммунистической партии строила светлое будущее.
Конечно, понятие Большой Человек — весьма и весьма относительное. Для тети Вари Балясиной, торговавшей на углу Казенной и Черноштанной улиц в госкиоске вялым укропом и дряблыми кабачками, Большим Человеком был Кузьма Фуфаев — директор овощеторга, а еще большим — инспектор отдела милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией лейтенант Гоги Централидзе.
Так вот, не масштабом тети Вари измерял нашу жизнь Главный. Уж он-то знал цену слова «Большой».
Надвигавшийся на нас стихийным бедствием, гость был на самом деле фигурой крупной. Долгое время до смерти лучшего друга физкультурников страны Советов товарища Сталина он стоял на высоких московских подмостках по левую руку от вождя, был, как считалось, его надежным продолжателем, твердым последователем и верной опорой в героических начинаниях. Именно поэтому в длинных коридорах власти его именовали не иначе как «С А М».
Брюхатенький, круглолицый, лысый до стеклянного блеска, невысокий ростом, в шеренге советских вождей Хрящев был столь велик, что множество худых, беспузых, сплошь волосатых смотрели на него с левого фланга социалистической демократии, как из глубокой ямы смотрят на небоскреб — почтительно задрав голову вверх до хруста шейных позвонков.
Приезд Большого Человека для нашей глухомани — событие неординарное, и было отчего забиться сердцам взволнованных провинциалов.
Главный минуты две любовался нашими изумленными лицами, потом сказал, обращаясь ко мне:
— Ты понял, какая задача ложится на газету? Что молчишь? Готовь предложения, как нам освещать историческое событие.
— Все просто, — сказал я. — В день приезда даем на первой полосе аншлаг самым жирным шрифтом: «Добро пожаловать, наш дорогой Никифор Сергеевич!» А чуть ниже указываем: «Ответственный редактор К.Зернов». Никаких словесных излишеств, зато полный успех обеспечен. Москва нас заметит.
— Всё? — оборвал Главный. — Высказался?
— Могу и еще…
— Хватит. Теперь послушай, что скажу я. Перво-наперво, никаких аншлагов. Выйдете от меня — рты запахнуть. Ничего не видели, ничего не слышали. Все должно оставаться тише воды ниже травы. Сами понимаете, не теща в гости к нам едет. Фигура! И дело имеет особую государственную важность. Вам я сообщил, потому что рекомендовал областному комитету нашей партии в число тех, кто будет освещать визит. Дальше. Завтра в обкоме закрытое совещание. Тебе там надо быть. Только не забудь рот сбрызнуть одеколоном. Чтобы не разило на весь город самогонкой.
— Константин Игнатьевич! — обиделся я по — серьезному. — Какая самогонка? Пью «Столичную». С белой головкой. И то медицинскую дозу. Провалиться мне на этом месте!
— Успеешь, — пообещал Главный. — Еще провалишься. У тебя медицина простая: две капли воды на стакан водки. Я знаю.
— Гы-гы! — проржал Лапшичкин.
Главный строго поглядел на него, и тот умолк.
— Главное, не забывайте о деле. Что во-первых, вы знаете. Что во-вторых, мне и самому толком еще не ясно. Поэтому надо быть в постоянной высокой боевой готовности. Ты, Юрий Савельевич, приготовь пленки побольше. В обкоме обещали достать «Кодак». Воспользуйся этим. Снимки сразу потребуются. И только отличные. Ясно?
— Запечатлел и закрепил, — отозвался Лапшичкин. — Хорошая бумага есть. Думаю, все будет ох кей. А вот вам, лично, Константин Игнатьевич, не завидую.
— Что так? — вопросительно вскинул брови Главный.
— Обстоятельства для вас, как для нашего политического руководителя, в густом тумане, — Лапшичкин говорил с очень умным видом, который бывает у тех, кто привык произносить глупости. — Мне что, я щелкнул, запечатлел и закрепил. А у вас? Композиция многоплановая. Условия освещения трудные. Как выбрать светофильтры? А? Тут помаракуешь!
За туманностью выражений маячило нечто сложное для понимания, хотя легко было догадаться, куда гнет Фотик.
— В чем-то ты, конечно, прав, но фильтры мы подберем, — сказал Главный спокойно. — Партия научила нас и не такие трудности преодолевать.
— Я уверен в этом, — вздохнул сочувственно Лапшичкин. — Но ведь не все так просто. Благо — вы большой политик…
— Ну-ну, — сказал Главный с подозрением. — К чему это?
— А к тому, Константин Игнатьевич, что как пошло всё после смерти товарища Сталина наперекосяк, так и жмем двумя колесами по кочкарнику. Ни ясного направления, ни прямых установок. Все «или-или». Как, помните, бывало? Писал, допустим, товарищ Сталин свой гениальный труд всех времен и народов «Марксизм и вопросы языкознания». Вся страна читала, проникалась проблемами, потом обсуждали, и всем становилось ясно: языковед академик Map, извините на резком слове, оказался так — ни с чем пирог. Один словарный запас и никакого лексикона. О чем тут спорить? Или писал товарищ Сталин свой новый гениальный труд «Экономические проблемы социализма». Мы одобряли его содержание, и снова всё становилось ясным. Основной закон социализма — это закон. Остальное — буржуазный субъективизм. Короче, все было четко и ясно, как на войне. Каждый боец знал задачу: ориентир один — печная труба, ориентир два — сухая береза. Подавал Генералиссимус команду: «Ориентир два — слева академик Map!» Мы: «Та-та-та!!» — и снесли под самый корень. «Ориентир один — справа кибернетика!» «Та-та-та!» — и в прах окаянную лженауку. А сейчас? Есть, в конце концов, у нас основной закон социализма или один субъективизм остался? Или вот: что есть кибернетика по новым историческим понятиям? Буржуазная лженаука или путь к вершинам будущего? Как вы ответите? Никаких конкретных указаний от партии. Мне, в конце концов, что. А вам? Э-ге!
В тепле и спертодушии редакторского кабинета Лапшичкин разомлел и градусы, дотоле свободно гулявшие в крови, довели его духовное состояние до высокой кондиции умственного напряжения. Глаза осоловели, голос стал спотыкаться. Главный это заметил и взглянул на часы.
— Уже поздно, Юрий Савельевич. Иди-ка домой. Завтра нас ждут большие хлопоты.
— Запечатлел, — сказал Лапшичкин и, чтобы перевести себя в вертикальное положение, оперся о край редакторского стола. — Закрепил и ухожу.
Стараясь держать прямую линию, он на негнущихся ногах дотопал до выхода и крепко сжал спасительную дверную ручку.
— До свидания, Константин Игнатьевич! Мы пошедши…
На лице Главного блеснул отсвет душевного удовольствия.
— Вот, смотри, — сказал он расчувствованно, — мужик вроде простой, звезд с неба не берет, в голове часто один вираж-фиксаж, а как формулирует! Будто сам сидел в редакторском кресле. Конечно, кое в чем он ситуацию заостряет, но в целом — прав. Увидишь, еще вернутся времена, когда мы снова станем бомбить языкознание…
Длинный телефонный звонок прервал его на полуслове. Трезвонил красный аппарат. Работал он, как я знал, только в одну сторону: сверху вниз, из обкома компартии от Первого секретаря к нашему Главному.
— На проводе, — сказал Главный, хватая трубку так, будто она обжигала. — Слушаю вас, Алексей Георгиевич. — А сам замотал мне головой: мол, давай, освобождай кабинет. Беседы с начальством по красному телефону всегда требовали конфиденциальности и велись с уха на ухо.
Пока я шел к двери, Главный торопливо докладывал:
— Нет, у меня никого. Были, ушли. Да. Инструктировал. Так точно. Могу прямо к вам. Так точно, еду.
Маховик событий разгонялся, набирал обороты. Барабанная дробь в оркестре нашей областной власти нарастала, начинала звучать тревожно.
РОНДО КАПРИЧИОЗО
Дед мой, Ерофей Елисеевич, человек трудящий, в деревне всеми уважаемый; по анкетам, которые ему приходилось заполнять, в недозволенной советской властью деятельности неучаствовавший, к суду и следствиюне привлекавшийся , в минуты душевного равновесия, сбалансированного крепачом-первогоном, поглядывал на нас, голопузую мелюзгу, и философствовал добродушно: «Развелось, понимаешь, вокруг нас гнилой интеллигенции по отсутствию разумности обстоятельств».