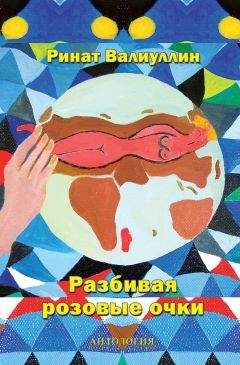Наталья Смирнова - Москва Нуар. Город исковерканных утопий
— Ныа двыа слыова, кыомандир, — расслабленно ыкая на каждой гласной, пропел кожаный. И сделал приглашающий жест рукой.
Мент повернулся ко мне, потом снова к кожаному — и подвис.
— Дыавай-дыавай, — сказал кожаный, по-прежнему ыкая, но каким-то теперь уже приказным тоном. — Сиюда иди, кыомандир.
В глазах «командира» появилось какое-то животное выражение — смесь острого удивления и острой же тоски, — и он молча пошагал к кожаному, точно запутавшийся в командах пес — к дрессировщику.
Кожаный что-то коротко сказал менту в ухо. Тот покосился на меня, понуро кивнул и побрел в темноту.
— Кыомандир! — негромко окликнул кожаный.
Мент остановился и напряг спину.
— Ничего не забыл, кыомандир?
Спина чуть ссутулилась.
— Может, чужое что прихватил?
Спина не шелохнулась.
— Лыадно, иди, — смягчился вдруг Кожаный, и мент торопливо заскрипел сапогами по мерзлой снежной коросте.
— Не нарывайся, друг! — беззлобно посоветовал мне Кожаный, подмигнул и тоже пошел прочь.
— Спасибо, — вежливо просипел я, но он даже не обернулся.
Друг. Ага, друг. Хорошенькие у меня теперь друзья…
И вот я жду милосердия. Оно скоро придет.
Вон оно, вырулило из-за угла, остановилось рядом с вокзалом — и открыло мне двери.
Милосердие — штука, как известно, расплывчатая и абстрактная, могущая принимать множество форм: от завалявшейся в кармане монеты до чека с непроставленной суммой, от пакета с объедками до благотворительного концерта, от поцелуя до искусственного дыхания, от таблетки валидола до выстрела в голову, от умения любить до умения убивать…
Ниспосланное мне милосердие конкретно. Оно имеет форму автобуса грязно-белого цвета. Оно дано мне на одну ночь — на эту холодную, черную, страшную, последнюю, счастливую, чертову ночь, — и я приму его без колебаний.
В эту холодную ночь, когда за час можно замерзнуть до смерти.
В эту черную ночь, когда за минуту можно исчезнуть бесследно.
В эту страшную ночь, когда меня ищут по всему городу, в квартирах и кабаках, в метро и аэропортах, в гостиницах и кинотеатрах, в клубах и казино, на улицах и в подъездах.
В эту последнюю ночь, когда меня ищут, чтобы убить.
В эту счастливую ночь — когда меня не смогут найти, ибо никто не станет искать меня здесь, в Автобусе Милосердия, спасающем бездомных от обморожений и голода.
Мне нужно милосердие в эту чертову ночь!
Поэтому я падаю перед открывшимися дверями автобуса, я кашляю, хрюкаю и хриплю, я ползаю на четвереньках, как будто не имею сил встать, и я тяну к ним дрожащие руки — к троим людям в синих куртках-спецовках, с красными крестами на рукавах, с надписями «Милосердие» на спинах и с марлевыми медицинскими масками на мордах. Я заплетающимся языком лопочу:
— Ми-ло-сер-ди-е…
Я ползаю у них под ногами, я трогаю их ботинки и клянчу:
— Ре-бя-та…
Я шмыгаю носом и унижаюсь:
— Спа-сай-те…
Так меня научила Лисичка. «В автобусе мало мест, — сказала она. — Они берут только тех, кому совсем плохо — и возят по городу всю ночь, греют и кормят, а утром привозят обратно».
«Только тех, кому совсем плохо».
«Только тех, кто на грани».
«Только тех, кто без них подохнет».
Что ж, в моем унижении, по крайней мере, нет фальши. Без них я подохну: святая правда. Меня просто убьют люди Старого. Загонят и убьют — как тупую, безмозглую дичь.
Кроме того, очень скоро меня станут искать и менты.
— Пиз-дец мне, ре-бя-та…
Сердобольные пареньки в масках берут меня под руки и втаскивают в автобус. Теперь я в безопасности. Я буду в безопасности всю ночь, до утра — а утром, в 7.01, я сяду в поезд…
Люди в масках вводят в салон и рассаживают опухших, нечистых, обмороженных, разлагающихся полулюдей. Автобус Милосердия трогается.
Лисичка Ли — моя девочка, моя вокзальная шлюшка, мой добрый ангел-хранитель, — указала мне надежную нору. Надежную и вонючую.
Господи Боже, какая же здесь вонь! Всю оставшуюся пачку зеленых я отдал бы за медицинскую маску — такую же, как у этих, милосердных. Маску мне, маску!..
Окна автобуса затянуты тонкими морозными нитями, украшены узором из безупречных пауков и снежинок, замазаны изнутри ледяной глазурью. Тонкая глазурь отгораживает наше вонючее, клейкое, автобусное тепло от холодной, пронизывающей чистоты города. Там, снаружи, легко и больно дышать, и от каждого вдоха ноздри как будто чуть-чуть склеиваются… Там, снаружи, меня ищут мои убийцы, чертыхаясь и матерясь, вдыхая и выдыхая ледяной воздух…
Здесь, внутри, стараясь не дышать носом, я выскребаю в идеальном узоре уродливый, но удобный «глазок» — и смотрю в окно.
Мы тащимся мимо «Атриума», ревя мотором и дергаясь в бессильных конвульсиях. Торговый центр полыхает неоном, в витринах корчатся полуголые манекены, а точно такие же, только в дубленках и шубах, ломятся в стеклянные двери — туда, к круглосуточным кассам… В свете фар, фонарей и реклам, в подсвеченной красным пурге люди с лицами цвета ржавчины кажутся веселыми бесами; их припаркованные в семь рядов тачки — семь кругов ада, гудящего московского ада, в котором пробки случаются даже в полночь…
…Все-таки это место действительно подходило для БаБла Милосердных Монстров как нельзя лучше.
Идея БаБла (Бала Благотворительности) принадлежала целиком и полностью мне, но я-то планировал снять на ночь замшелый театр навроде МХАТа, или концертный зал, ну или, на худой конец, какой-нибудь пафосный клуб…
Устроить БаБла именно в «Атриуме» захотел Старый.
Старый с Лисичкой Ли наведывались в «Атриум» часто. Лисичка закупала духи, кремы, туфли, шмотки, белье, покрывала, шампуни, печенье и соусы в масштабах почти что промышленных. Старый, надо отдать ему должное, не раздражался, ждал ее, сколько нужно, и даже оправдывался перед осоловевшими бодигардами, что, мол, тяжелое детство дает, мол, себя знать, а вы, мол, терпите, уроды. И рожи, мол, пятерней заслоняйте, когда зеваете, блин… Пока Лисичка закупалась, Старый любил скоротать время в ресторане — пожрать суши под текилу, — а потом зайти в кинозал: он считал себя киноманом. Время от времени помимо любовницы и охраны Старый брал с собой в «Атриум» кого-нибудь из подчиненных. Подобное приглашение означало высшую степень расположения со стороны босса и, соответственно, гарантию процветания, продвижения, безбедности и безнаказанности любимчика отныне и в течение некоторого отрезка времени впредь.
Отрезок этот длился, как правило, месяца два.
По истечении срока годности любимчик выбрасывался на помойку (то есть переквалифицировался в личного шофера второго помощника секретарши, или увольнялся, или стирался с лица земли — в зависимости от настроения Старого).
С начала ноября Лисичку и Старого сопровождал в «Атриум» я.
В конце декабря я все еще был любимчиком, но хорошо понимал, что срок мой подходит к концу.
В конце декабря Старый позвал меня в «Атриум», отправил Лисичку за шмотками, выпил сто грамм текилы и заявил:
— Один мой приятель, если дела у него шли хорошо, обязательно ставил свечку в храме Христа Спасителя. Мне каждый раз казалось, что свечки реально недостаточно. Но я помалкивал, потому что у него дела шли хорошо, а у меня — не очень. Теперь мой приятель сидит в тюрьме. Он выйдет не скоро — о-о-й, как не скоро! А у меня дела идут хорошо…
Дела у Старого действительно шли хоть куда. Он тихо и удобно сидел на трубе — в достаточно напряженной позе, чтобы в любую секунду свалить (ибо труба все-таки была не вполне его), но и занимая достаточно много места, чтобы задница не чувствовала ни в чем недостатка (ибо труба все-таки была не вполне чужая). Он сидел, свесив ножки, и с удовольствием слушал, как с тихим журчанием утекала в далекие страны ароматная и маслянистая черная кровь РФ.
— …Я владею нефтянкой. Нефтянкой!
Старый произносил слово «Нефтянка» так сладко и плотоядно, точно это было имя голой и капризной африканской принцессы, которая отдавалась ему по ночам с криками, слезами и стонами. Вообще, слово «нефтянка» идиотским, нелепым, просто наинелепейшим образом меня задевало и мучило. Стоило боссу его сказать (что случалось достаточно часто), как перед моими глазами возникала злосчастная принцесса — влажная, верткая, задастая негритянка навроде Хэлли Бери, — которая уже через секунду охотно уступала свое место другой, бледной и рыжеволосой. Той, которую Старый действительно трахал. Лисичке. Стонет Лисичка или не стонет, когда кончает? Закрывает свои белесые лисьи глаза — или они стекленеют и таращатся, как у набитого паклей чучела? Эти вопросы занимали меня чрезвычайно.
— …Ты меня, вообще, меня слушаешь?
— Да, шеф, конечно!
…Как она пахнет? Какая она на вкус?..
— …Так вот, дела мои идут хорошо. А я человек суеверный: если дела идут хорошо, нужно обязательно проставляться. Но свечки я ставить не буду. Свечек реально недостаточно. Я лучше займусь благотворительностью…