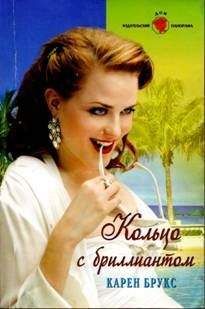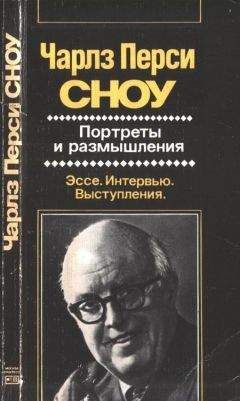Чарльз Сноу - Коридоры власти
Роджер изобразил улыбку, будто они с Монти не только союзники, но и друзья. Целых пять лет, с тех пор как попали в палату общин, они возглавляли группу заднескамеечников.
— Итак, Дэвид — если позволите так вас называть, — не возражаете против еще одного шажочка? Насчет Соединенных Штатов. Скажите, а ваша политика смысл имеет?
— Надеюсь.
— А разве она не зиждется на уверенности, что ваше техническое превосходство — на веки вечные? Разве отдельным вашим ученым не кажется, что вы недооцениваете русских? Они ведь недооценивают, не так ли, Льюис?
А Роджер хорошо осведомлен, подумал я, ибо и Фрэнсис Гетлифф, и Уолтер Люк, и их коллеги именно на этот пункт и напирают.
— Насчет недооценки русских нам ничего не известно, — сказал Рубин.
В целом он был небеспристрастен. И все же я видел, что к Роджеру он испытывает уважение как к человеку умному и проницательному. В вопросах чужого ума Рубину можно доверять; за внешней обходительностью стоит критичность, уважает Рубин немногих.
— Ну-с, — подытожил Роджер, — будем считать — и это нам на руку в соображениях безопасности, — что Запад (под Западом я разумею вас) и Советский Союз вступят в гонку вооружений практически на равных условиях. В таком случае сколько времени нам потребуется, чтобы был результат?
— Явно меньше, чем мне бы хотелось.
— Сколько лет?
— Лет десять.
Повисла пауза. Гости, не участвующие в разговоре, слушали спокойно и поучаствовать не стремились.
— У кого какие соображения? — спросил Роджер.
В сарказме слышалось предложение прекратить дискуссию. Роджер отодвинулся со стулом в знак того, что пора возвращаться в гостиную.
Роджер еще придерживал дверь, когда наверху, на галерее и в комнате, откуда мы выходили, раздался звон колокольчиков. Так звонят на корабле перед учениями на спасательных шлюпках. Внезапно Роджер, еще минуту назад казавшийся величественным и, более того, грозным, заулыбался глупо и жалко.
— Парламентский звонок[2], — пояснил он Дэвиду Рубину все с той же улыбкой, до странности мальчишеской, виноватой и одновременно довольной — такая улыбка бывает у человека, задействованного в тайном обряде. — Уже идем! — Заднескамеечники высыпали как школьники, что боятся опоздать. Одни мы с Дэвидом поднялись по лестнице.
— Ушли, да? То-то они, должно быть, вас обоих утомили, — громко и без обиняков заявила Каро. — Ну, чьи репутации вы пытались погубить? Наверняка на мелкую сошку не разменивались…
Я покачал головой и сказал, что мы обсуждали специализацию Дэвида и будущее планеты. Маргарет посмотрела на меня. Однако парламентский звонок не только сбил эсхатологический настрой, но и уничтожил чувство ответственности. Напротив, в ярко освещенной гостиной будущее казалось ровным, словно все уже произошло, и несколько комичным.
Дамы как раз подняли тему, которая в последнее время стала невероятно популярной в гостиных такого типа, — тему престижных школ, точнее, способов устроить туда ребенка. Молодая жена, гордая как материнством, так и собственной образовательной дальновидностью, поведала, что в течение часа после рождения ее сын, ныне трехмесячный, был «записан» не только в Итон, но и в первую свою закрытую школу.
— Мы бы его и в Баллиол[3] записали, — говорила она, — да сейчас это нельзя.
А что Каро уготовила своим детям? Что Маргарет предпринимает для наших детей? Дэвид Рубин со своей восхитительной, осторожной, деликатной учтивостью внимал планам покупки мест за тринадцать лет вперед для детей, которых в глаза не видел, живущих при государственном строе, для него экзотическом. Лишь раз он упомянул, что, хотя ему всего сорок один, его «старшенький» уже на втором курсе Гарвардского университета. Остальное время Дэвид, печальный и внимательный, слушал. Мне захотелось уколоть миссис Хеннекер, сидевшую подле, и я сообщил, что у американцев манеры лучшие в мире.
— Что еще за новости? — вскричала миссис Хеннекер.
— У русских тоже очень хорошие манеры, — добавил я, словно припоминая. — А наши — одни из худших.
Приятно было всполошить миссис Хеннекер. Для всякого, знакомого со сравнительной социологией, продолжал я, очевидно, что манеры представителей низших слоев английского общества весьма недурны — по крайней мере заметно лучше американских, — однако стоит миновать экватор социальной лестницы, как англичане начинают все увереннее проигрывать американцам. Манеры американских бизнесменов, ученых, людей искусства и аристократов буквально вне конкуренции. Я пошел дальше — стал строить догадки относительно этиологии таких «ножниц».
Меня не отпускало подозрение, что миссис Хеннекер не находит мою умственную работу ни целесообразной, ни результативной.
Мужчины шумно поднимались по лестнице, Роджер в качестве замыкающего. Очередной проект принят большинством голосов, что и требовалось доказать. Вечер пошел на спад; не было и половины одиннадцатого, когда мы с Маргарет увезли Дэвида Рубина. Такси мчалось по набережной в направлении Челси, где Дэвид остановился. Он говорил с Маргарет о вечере, я же смотрел в окно и только изредка ронял ремарки. Я будто грезил наяву.
Мы пожелали Дэвиду доброй ночи. Маргарет взяла меня за руку и спросила:
— О чем ты думаешь?
О чем я думал? Я просто смотрел на город, знакомый, уютный. Переулки Челси, где мне доводилось бродить; огни Фулхем-роуд; скверы Кенсингтона; Квинс-гейт, Гайд-парк. Самая беспорядочная, тенистая, «деревенская», если можно так сказать; самая нестоличная из мировых столиц. Не то чтобы я вспоминал — скорее скользил мыслью по многочисленным воспоминаниям; меня преследовало чувство, отнюдь не из разряда мистических, что нынче город выпустил радости любви и брака, разочарования и восторги, прежде тщательно скрываемые. Разговор о ядерном оружии совершенно улетучился из памяти — таких разговоров я достаточно наслушался, привык к ним, не мог не привыкнуть, — и все-таки меня потряхивало от ощущения уязвимости города, от нежности к городу как таковому, хотя в обычном состоянии я не слишком его жалую.
Темная дорога через парк, сверкание Серпентайна, бледные фонари Бейсуотер-роуд… Эмоции, не могущие быть спрятанными от себя самого, едва не выплескивались. Эмоции эти столь моветонны, что в них ни за что не признаешься, а вот похвалит иностранец вашу родину фразой из разговорника — и слезы наворачиваются, это после ироничной-то критичности, всю сознательную жизнь культивируемой.
Глава 2
Старый Герой
Выборы прошли согласно плану — точнее, согласно плану друзей Роджера. Их партия вернулась с перевесом в шестьдесят голосов; как и предсказывала миссис Хеннекер перед ужином на Лорд-Норт-стрит, сам Роджер в должное время получил пост в правительстве.
Едва объявили о его назначении, как среди моих сослуживцев начали распространяться домыслы. В Уайтхолле Роджера называли амбициозным. Говорили не зло; заявление было на редкость объективное, на редкость точное, учитывая, что принадлежало людям, лично Роджера не знавшим, и ставило точку в официальной характеристике его персоны.
Летним вечером вскоре после выборов, когда я сидел в кабинете моего босса, сэра Гектора Роуза (Сент-Джеймс-парк утопал в зелени, по столешнице крался солнечный луч), мне устроили ненавязчивый допрос. Под началом сэра Гектора я работал на тот момент уже шестнадцать лет. Наши деловые отношения всегда строились на взаимном доверии, однако тет-а-тет мы испытываем те же трудности в общении, что и в начале знакомства. Нет, сказал я, Роджера Квейфа я почти не знаю (кстати, нисколько не преувеличил). У меня было ощущение, ничем не подкрепленное, что Роджер — этакая вещь в себе.
Строить догадки Роуз не любит. Его занимают факты. Он допустил, что Квейф амбициозен. В его глазах амбициозность сама по себе не порок. Однако должность, Квейфом полученная, для многих амбициозных людей стала потолком. В этом-то и штука. Короче, если Роджеру было из чего выбирать, выбор он сделал неправильный.
— Данное обстоятельство, дорогой мой Льюис, — проговорил Гектор Роуз, — дает нам право счесть, что выбора у него не было. В таком случае, полагаю, наше начальство не будет единодушно в пожелании ему успеха. К счастью, от нас не требуется вникать в эти замечательные и, без сомнения, вдохновленные благими намерениями предположения. Говорят, мистер Квейф хороший человек. Что ж, временное утешение, по крайней мере для его министерства.
Гектор Роуз поднял тему назначения не от скуки. После войны деятельность, которую мы между собой называли «координацией обороны», была разделена, и львиная ее доля делегирована новоиспеченному министерству. Тому самому, где Роджера только что назначили парламентским секретарем. В процессе Роуз потерял толику влияния и полномочий. Что крайне несправедливо, как я не устаю отмечать. Когда мы познакомились, Роуз был самым молодым непременным секретарем. Теперь ему три года до пенсии, а он все в том же чине и на той же должности, всех коллег долгосрочностью пребывания перещеголял. Роузу пожалован титул рыцаря Большого Креста ордена Бани — награда, которую он и его друзья ценят, но все прочие не замечают. Он по-прежнему работаете аккуратностью вычислительной машины. Продуманная корректность Роуза, некогда столь же надежная, сколь и его компетентность, в последнее время стала протираться на локтях. Роуз по-прежнему с виду сильный, у него широкие плечи и здоровый цвет лица, но моложавость, затянувшуюся до глубокой зрелости, он окончательно утратил. Волосы поседели, на лбу залегла морщина. Насколько глубоко его разочарование? Во всяком случае, со мной Роуз ограничивался легкими намеками. В отношении нового министерства, которое ему логично было бы теперь возглавлять, Роуз исполняет свои обязанности и часто выходит за их рамки.