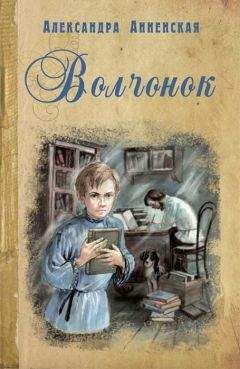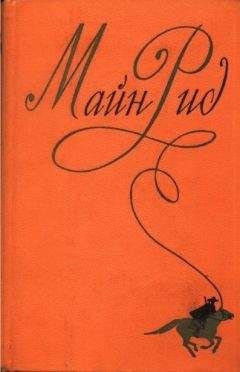Жан Эшноз - Равель
Пасмурное небо едва пропускает тусклый солнечный свет; Равель, вспугнутый сиренами, которые зычно возвещают снятие с якоря, поднимается на верхнюю палубу судна, чтобы проследить через окна кают-компании за его отплытием. Давящую усталость, на которую он жаловался этим утром в «201-м», как будто разогнало трехголосое пение пароходных гудков, и он вдруг ощущает такую легкость, такой прилив энергии и жизненной силы, что его тянет выйти на свежий воздух. Но длится этот подъем недолго: очень скоро он замерзает без пальто, стягивает на груди полы пиджака и дрожит. Внезапно поднявшийся ветер буквально приваривает одежду к его коже, словно отрицая ее существование, ее назначение. Этот вихрь так яростно обдувает тело, что он чувствует себя голым, и ему удается закурить сигарету лишь после нескольких безуспешных попыток, так как спички гаснут одна за другой. Наконец дело сделано, но теперь и сама «Голуаз», точно в горах, — мимолетное воспоминание о санатории, — теряет привычный вкус: ветер коварно проникает вместе с дымом в легкие Равеля, охлаждая тело уже изнутри, атакуя его со всех сторон, препятствуя дыханию, взлохмачивая волосы, осыпая одежду и запорашивая глаза пеплом сигареты; в общем, бой слишком неравен, и лучше вовремя отступить. Равель возвращается, как и все другие пассажиры, в застекленное помещение и оттуда спокойно наблюдает за маневрами судна, которое грузно разворачивается в Гаврском порту, пересекает, под мычание гудков, гавань и наконец идет во всей своей красе мимо Сент-Адресса и мыса Эв.
Поскольку корабль вскоре оказывается в открытом море, пассажирам быстро надоедает смотреть на воду. Один за другим они сбегают из застекленного помещения, предпочитая любоваться роскошным убранством «Франции», ее бронзой и розовым деревом, дамастом и позолотой, канделябрами и коврами. Равель же остается на месте, желая как можно дольше созерцать серо-зеленую поверхность, изборожденную эфемерными белыми всплесками, и надеясь — а почему бы и нет? — почерпнуть в этом зрелище мелодическую линию, ритм, лейтмотив. Он прекрасно знает, что так никогда не бывает, что подобным образом ничего не удается создать, что вдохновения не существует, что музыку сочиняют, сидя перед клавиатурой. Но что из того, коли уж ему впервые довелось увидеть океанский простор, отчего бы не попробовать? Увы, ему почти сразу становится ясно, что этот простор не сулит никаких мелодий, и Равеля тоже настигает утомление; тень скуки обостряет его черты, взяв в союзницы вернувшуюся бумерангом усталость, и эти невнятные метафоры также доказывают, что ему невредно было бы немного отдохнуть. Равель ныряет в недра корабля, пускаясь на поиски своего «сьюта»; его почти забавляет сознание, что он может заблудиться в этом ковчеге посреди океана. Наконец он отыскивает каюту и ложится на койку, ожидая захода в Саутгемптон, предусмотренного где-то во второй половине дня, после чего судно снова снимется с якоря и отправится дальше. Вот тогда-то, собственно, и начнется настоящий трансатлантический рейс.
На него снова нападает слабость: ведь он сегодня, можно сказать, не обедал, если не считать крутого яйца, съеденного на пристани; кроме того, ядреный морской воздух перенасытил его тщедушную грудь. Растянувшись на постели, он пытается вздремнуть хоть минутку, но его нервозность борется с изнеможением, и эта схватка лишь усугубляет то и другое, выливаясь в нечто третье — физическое и моральное недомогание, превосходящее по силе сумму его составляющих. Поэтому волей-неволей ему приходится встать; он принимается шагать взад-вперед по каюте, изучая ее подробно, но безрезультатно, и в конце концов решает просмотреть свой багаж и убедиться, что он ничего не забыл. Нет, все на месте. Если не считать маленького синего чемоданчика, набитого под завязку сигаретами «Голуаз», в остальных сложены, например, шестьдесят рубашек, двадцать пар обуви, семьдесят пять галстуков и двадцать пять пижам, что с учетом принципа соотношения частей гардероба дает более или менее ясное представление о целом.
Он неизменно заботился о своей одежде, о ее содержании и обновлении. И если ему не удавалось предвосхитить новейшие тенденции в мире моды, то он по крайней мере скрупулезно следовал им; так, он был первым во Франции, кто начал носить сорочки пастельных тонов, первым, кто стал одеваться во все белое — трикотажную рубашку, брюки, носки, туфли; ему нравилось выглядеть как денди, и он всегда крайне внимательно и трепетно относился к этой стороне жизни. Его видели в молодые годы в черном фраке и сногсшибательном жилете, в шапокляке и желтых лайковых перчатках. Его видели в обществе Сати, в пальто-реглане, с тросточкой, висящей на локте, и в котелке, — это было еще до того, как Сати начал рассказывать о нем гадости. Его видели во время перерыва на конкурсе кандидатов на премию Рима: взгляд, устремленный в никуда, рука за бортом редингота и на сей раз «Кронштадт» на голове; это было до того, как Равеля отвергли пять раз кряду: он разрешил себе слишком много вольностей в обязательных кантатах, и члены жюри, разумеется, провалили его, объявив, что, хотя и не могут запретить ему сочинять «музыку для пожарных», но, уж конечно, не допустят, чтобы он безнаказанно считал их идиотами. Его видели в черно-белом костюме, черно-белых полосатых носках и белых туфлях, и канотье и с неизменной тросточкой в руке — ведь тросточка украшает руку, как улыбка — губы. Его также видели в облачении из блестящей тафты у Альмы Малер — и это опять-таки было еще до того, как Альма стала распускать на его счет двусмысленные слухи. Кроме всего перечисленного он владеет черным халатом с золотым шитьем и двумя смокингами, одним в Париже, другим в Монфоре.
Когда сирены снова взвывают, возвещая близость Саутгемптона, Равель заново надевает пальто, чтобы выйти и понаблюдать за прибытием. С верхней палубы в резко наступившей темноте мерцают ажурные цепочки желтых фонарей, обозначающих берега канала, который ведет к порту; этот последний освещен гораздо лучше, и Равель начинает различать скелеты высоченных портовых кранов, нависших над причалами, «Мавританию» в сухом доке, бронзового ангела над мемориалом «Титаника» и зеленый поезд Саутгемптонской железной дороги, стоящий близ пристани, где еще до подхода их судна скопилась небольшая группа людей. Один из них, с папкой в руке, отделяется от остальных, когда судно подходит к берегу, и, едва матросы устанавливают сходни, проворно взбегает на палубу.
Умное лицо, строгий костюм и мягкий голос, монокль и крахмальный отложной воротничок — Жорж Жан-Обри выглядит не то преподавателем, не то врачом, не то правоведом, а то и профессором судебной медицины. Равель познакомился с ним более тридцати лет назад в зале «Эрар», в день первого исполнения своих «Отражений» Рикардо Виньесом. Жан-Обри, проживающий в Лондоне, совершил поездку в Саутгемптон, желая увидеться с Равелем во время этой короткой остановки и вручить ему копию своего перевода «Золотой стрелы» Джозефа Конрада; он недавно закончил его и собирается в следующем году издать у Галлимара. Это чтение, как он полагает, развлечет Равеля по время плаванья. Что касается Конрада, тот умер три года назад.
3
За три года до того, как он умер, Равель и Жан-Обри посетили его, и этот визит никому из них не доставил удовольствия. Конрад оказался более корпулентным, чем Равель, но, как и он, низкорослым, узколицым и крайне неразговорчивым человеком. Он был совершенно не расположен к дружеским излияниям, тем более что скверно себя чувствовал, страдал неврастенией, вызывавшей резкие перемены настроения, маялся люмбаго и подагрическими болями в запястьях и пальцах рук. Когда он все же открывал рот, то говорил с заметным марсельским акцентом, результатом своего первого пребывания во Франции, вернее, трех лет, проведенных на борту разных кораблей компании «Делестан и сын», сначала в качестве пассажира, затем учеником лоцмана и далее стюардом, после чего пытался покончить с собой, выстрелив, но не попав себе в сердце, как раз после рождения Равеля.
Поскольку Равель, как и Конрад, нечасто бывал словоохотлив, их диалог больше походил на бесплодную пустыню с редкими оазисами, когда гость сдержанно высказывал свое восхищение литературой хозяина, а хозяин пытался тактично замаскировать свое полное незнание музыки гостя. В этой пустыне Жан-Обри играл роль врача «скорой помощи», который мечется между двумя страдальцами, пытаясь сделать и тому, и другому хоть какое-то искусственное дыхание, иными словами, подбрасывая немотствующим собеседникам темы разговора. Стоя на палубе «Франции», они перебирают еще два-три воспоминания о той встрече; Жан-Обри обещает Равелю прислать экземпляр другой переведенной им книги Конрада — «Брат с берега», которая должна выйти одновременно с «Золотой стрелой», но тут снова ревут гудки и — прощай, Саутгемптон!